Показаны записи 4761 - 4770 из 30984
</>
Не есть не ходящий на руках = есть ходящий на руках.
metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)
А, ну да: не есть не ходящий на руках = есть ходящий на руках.
Понял.
Но, тогда, я не смогу построить вывод вида: не всяк тебе друг, кто тебе на голову насрёт (это из анекдота).
Но, тогда, я не смогу построить вывод вида: не всяк тебе друг, кто тебе на голову насрёт (это из анекдота).
Рассуждение:
а) средние термины различны значит термины (Х и Y) сохраняют и знаки, и сущности Формальной записи.
б) В формальной записи термины отрицательные и нулевые, значит вывод ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ суждение
Вывод: Ни один не ходящий на ногах не есть не ходящий на руках
Но, вывод: Ни один не ходящий на ногах не есть не ходящий на руках, - является "ложным".
Ибо в заявленных исходных свойствах у нас есть только два свойства: ходить на ногах vs ходить на руках.
А вывод указывает на существование некоего третьего не названного свойства: например, это "ходить на голове.
Ибо, ни один не ходящий на ногах = ходящие на руках.
а) средние термины различны значит термины (Х и Y) сохраняют и знаки, и сущности Формальной записи.
б) В формальной записи термины отрицательные и нулевые, значит вывод ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ суждение
Вывод: Ни один не ходящий на ногах не есть не ходящий на руках
Но, вывод: Ни один не ходящий на ногах не есть не ходящий на руках, - является "ложным".
Ибо в заявленных исходных свойствах у нас есть только два свойства: ходить на ногах vs ходить на руках.
А вывод указывает на существование некоего третьего не названного свойства: например, это "ходить на голове.
Ибо, ни один не ходящий на ногах = ходящие на руках.
А где же вывод: Некоторые не-Х суть Y ?
</>
Ресурсы логической игры Кэрролла (3) Три правила создания вывода
metanymous в Metapractice (оригинал в ЖЖ)
Тогда, эту тему лучше назвать: Человек с разных точек зрения (N) ...
Человек:
--субъект - тогда мы можем описывать модели организации субъекта хоть в инженерном, хоть в UML ключе
--оператор - можем описывать специальные структуры оператора, возникающие по ходу практики моделирования.
--читатель метапрактика - открыта свобода для рефлексии сообществ и прочее
...и т.д.
Человек:
--субъект - тогда мы можем описывать модели организации субъекта хоть в инженерном, хоть в UML ключе
--оператор - можем описывать специальные структуры оператора, возникающие по ходу практики моделирования.
--читатель метапрактика - открыта свобода для рефлексии сообществ и прочее
...и т.д.
Открыл для себя, что ходьба спиной вперёд - это всегда "походка тайцзи".
Хм, совершенно неожиданный вывод!
А почему так?
"Походка тайцзи" - это паттерн движения "четвероногих предков", а существуют паттерны движений в положении сидя?))
Да, конечно. Тайцзи в кресле перед компом. В статике и динамике.
В этом положение сейчас многим приходится находиться длительное время. Или сидя - это уже не является тайцзи?
Ну, мастера тайцзи уверяют, что любые повседневные двигательные/статические паттерны содержат в себе паттерны тайци.
Например, такой взгляд можно найти в кн. «Чунлян Ал - Обнимая тигра, возвращаюсь к горе. Сущность Тайцзи».
Тайци за компом требует получить доступ к чётко фиксированной исходной позе:
--колени под прямым углом
--руки в локтях под прямым углом
--взгляд в центр экрана при полностью выпрямленном позвоночнике и взгляде, направленном строго горизонтально
…т.е. это требования не к телу, а к столу, монитору, стулу. Ну и к позвоночнику.
Хм, совершенно неожиданный вывод!
А почему так?
"Походка тайцзи" - это паттерн движения "четвероногих предков", а существуют паттерны движений в положении сидя?))
Да, конечно. Тайцзи в кресле перед компом. В статике и динамике.
В этом положение сейчас многим приходится находиться длительное время. Или сидя - это уже не является тайцзи?
Ну, мастера тайцзи уверяют, что любые повседневные двигательные/статические паттерны содержат в себе паттерны тайци.
Например, такой взгляд можно найти в кн. «Чунлян Ал - Обнимая тигра, возвращаюсь к горе. Сущность Тайцзи».
Тайци за компом требует получить доступ к чётко фиксированной исходной позе:
--колени под прямым углом
--руки в локтях под прямым углом
--взгляд в центр экрана при полностью выпрямленном позвоночнике и взгляде, направленном строго горизонтально
…т.е. это требования не к телу, а к столу, монитору, стулу. Ну и к позвоночнику.
</>
Моделирование КоммуникативногоЭкселенса и Языкоиды
metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)
Моделирование КоммуникативногоЭкселенса и Языкоиды
http://openmeta.livejournal.com/52531.html
http://openmeta.livejournal.com/52531.html
Буковки
Что тебе остается от снятого молока? Чашка цокает, дочь за стенкой встает на мамины каблуки, цеппелин срывается с поводка, поднимается налегке, шершень ходит по пирогу. Середина июля, а жить еще и не начинал, ложка звякает, дочка смахивает со стола пенал, карандаш для глаз поспешно прячется в рукаве, цеппелины борются с ветром, горит трава, теща водит пальцами по канве. Где-то грохает, реклама цукатов хлопается в стекло, сердце сбивает сметану лапками, густеют хляби в груди, дочь, закинув руки, смотрится в зеркало, делает правильные глаза, шершень с гулом летит назад. Цеппелин потихоньку сносит, моторы "Майбах" пытаются пересилить крен, солнце, море, эстляндский поезд, ветер, горит трава. Середина июля, пора засучить как следует рукава, разобрать антресоли, убрать в шкафах и начать, понимаешь, жить. Чайник цокает, земляника, пирог, сметана, все зашибись, буквально не о чем рассказать. Цеппелин идет против ветра, как в море лодочка, тень ложится пенкой на молоко. Дочь пасется на дачных пажитях, ссорится с правнучкой Колчака.
http://openmeta.livejournal.com/45069.html
Что тебе остается от снятого молока? Чашка цокает, дочь за стенкой встает на мамины каблуки, цеппелин срывается с поводка, поднимается налегке, шершень ходит по пирогу. Середина июля, а жить еще и не начинал, ложка звякает, дочка смахивает со стола пенал, карандаш для глаз поспешно прячется в рукаве, цеппелины борются с ветром, горит трава, теща водит пальцами по канве. Где-то грохает, реклама цукатов хлопается в стекло, сердце сбивает сметану лапками, густеют хляби в груди, дочь, закинув руки, смотрится в зеркало, делает правильные глаза, шершень с гулом летит назад. Цеппелин потихоньку сносит, моторы "Майбах" пытаются пересилить крен, солнце, море, эстляндский поезд, ветер, горит трава. Середина июля, пора засучить как следует рукава, разобрать антресоли, убрать в шкафах и начать, понимаешь, жить. Чайник цокает, земляника, пирог, сметана, все зашибись, буквально не о чем рассказать. Цеппелин идет против ветра, как в море лодочка, тень ложится пенкой на молоко. Дочь пасется на дачных пажитях, ссорится с правнучкой Колчака.
http://openmeta.livejournal.com/45069.html
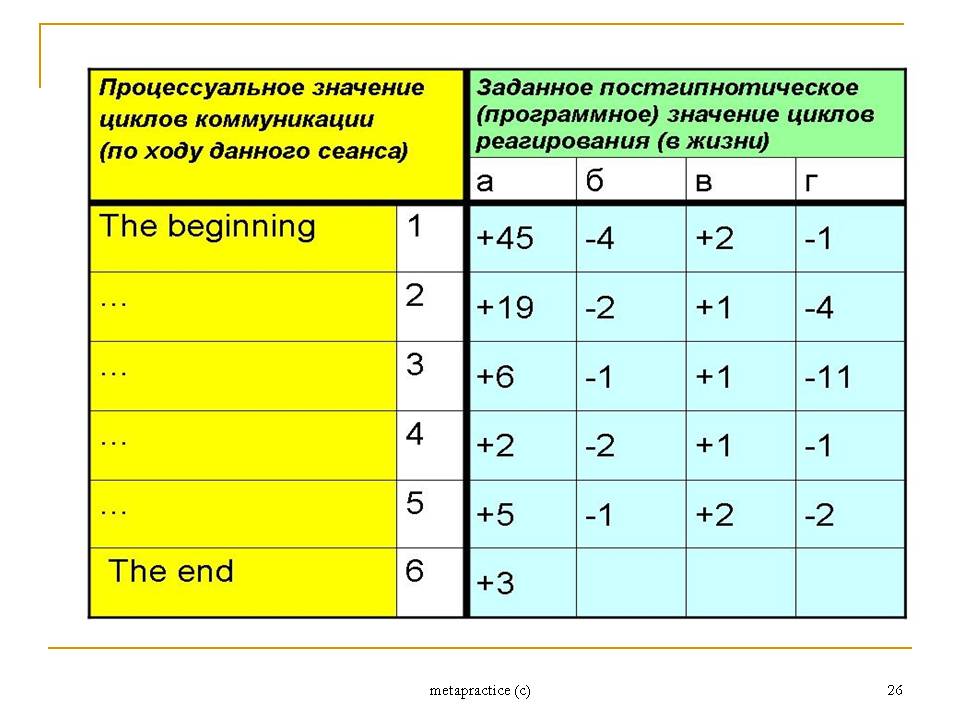
Дочитали до конца.