Показаны записи 741 - 750 из 30984
Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категориям: Образование, Эзотерика.
Все правильно.
Все правильно.
Во всем ищи более тонкие градации качества, не теряя из виду целое. И в чем вчера различал два-три качества, завтра увидишь массу новых (для себя) тонкостей. Нет мелочей - есть подробности. Эти чуть -чуть в сумме отличают Мастера от дилетанта.
Сунь Лутан
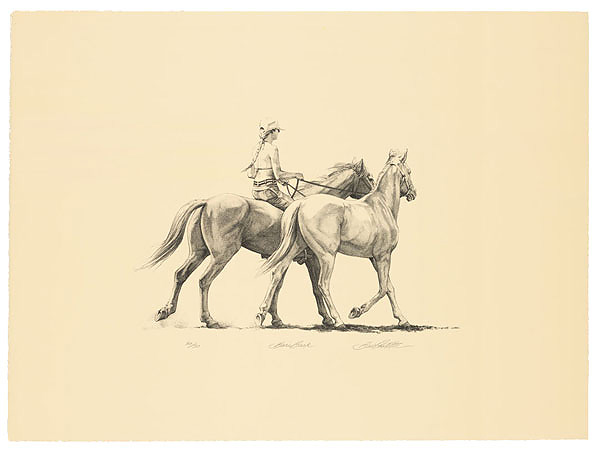
База моделирования
(1) Иное моделирование (54) Плацебо - ключ к моделированию
(2) Определения для моделирования (17) Талант/ талантливость – Гений/ гениальность
(3) Подсознательное мышление (4) Интуитивное мышление
(4) Буквализм/ literalism (23) Вербальный буквализм приравнивается к действию
(5) Organ Language (1) Начало такой известной и давно актуальной темы.
(6) ДЕПРОГРАММИРОВАНИЕ (3) антиресурсное программирование vs ресурное п. + депрограммирование
(7) Феномены/паттерны ЧА (8) ЦИ пример системного ЧА-феномена
(8) Моделируем интериоризацию (3) ведение картотеки
(9) Моделируем форму-процесс содержание (8) Мышление – «процесс. Интеллект – «содержание»
(10) Клон vs Модель
(11) Словарь (6) Модель-конструкция. Аксиоматика моделирования
(12) The nature of hypnosis (20) Качественные признаки транса
(13) Программирование для моделирования ЧА (5)
(14) Онтологии ЧА (1) Онтологизация ЧА есть средство генерации изменений субстрата
(15) Человек с разных точек зрения (1) Про людей - про Вас
(16) Первичное моделирование (2) Между экспериментаторами и подопытными
(17) «Чтение мыслей» (1) В "плохом" и хорошем смысле
(18) Биокомпьютинг (2) Единственная продуктивная модель коллективного обучения
(19) Эпистемология моделирования (4) Моделирование ЧА vs ИИ
(20) «Тебе»/ «себе» модель ЧА (1) «Тебе»/ «себе» - это не только коммуникация
(21) Онтология высших ментальных процессов (2) Ментальные процессы ЧА vs ИИ
(22) Ментальные инструменты (2) Ментальные инструменты ЧА vs ИИ
Типы моделирования
(23) Лоренцовское моделирование (5) Сигналы-стимулы и активация стереотипов
(24) Бейтсоновское моделирование (10)
(25) Коржибского моделирование (5) Наука и психическое здоровье
(26) Скиннеровское моделирование (26) Нейрология операнта
(27) Гибсоновское моделирование (4)
(28) Моделирование ТРИЗ (1) Психологическая составляющая
(29) Лингвистические модели (7) SWISH
(30) Моделирование этических/идеологических систем (1) liberty
(31) Инженерия психики (1) В каком смысле - "архитектура коллектива"
(32) Исполнитель - подчинённый - (1) командир – начальник – руководитель – управленец – мастер – лидер
(33) Карго-моделирование (2) Эмерджентность нейро сетевых свойств
Предпосылки моделирования
(34) Правило Трех Конкретных Примеров (ТКП) (1) Может быть организуем регулярную практику ТКП
(35) Моделирование нейрологии (7) Психическая энергия
(36) Моделируем упаковку информации (2) различные синтаксисы для одной семантики
(37) НЛ_Программирование vs Моделирование (2) подсознательная загрузка программ
(38) Четыре типа ТРЕБОВАНИЙ экологии на ТРЕХ системных уровнях
(39) Координаты на карте полянок-2
(40) The NLP Research and Recognition Project (R & R)
Практика - Метапрактика - Метапрактика Про
(41) Мета-модель (4) Вопросы мета-модели поверхностной структуры ЦИ
(42) Магия появления моделиста (46) Тренируемся
(43) Righting the Modeling Conveyor Belt (15) Уточняем базовые определения
(44) «Precision model» (5) Вопросы для извлечения системной информации
(45) Практика, Метапрактика и Метапрактика PRO (13) Само программирование
(46) We will metapractice you! (18) Само программирование
(47) Путеводитель по ассортименту школ развития3
(48) Пси-война - пси-защита (1) "De Conspiratione"
(00) Моделируем "meta experience" (2) What is the Experience of “Meta”
Metapractice на YouTube
(49) Metapractica (7) Осознанные тренировки - полупроизвольные навыки - автоматизмы
(50) Вебинары и видеокурсы Metapractice
Пресуппозиции и Процессуальные инструкции
(51) Подведение к техникам (6) приближаясь к точности
(52) Обновление в базовых в пресуппозициях НЛП (3) Пресуппозиции от Грегори Бейтсона
(53) Базовые пресуппозиции моделирования (8) Моделирование vs когнитив. программ. субъективной реальности
(54) Тренировка и пресуппозиции при работе с сигналами (7) Маятник ССС
(55) Пресуппозиции (8) Пресуппозиции есть? А если найду? :)
(56) Упражнения на пресуппозиции (3) Структура калибровки
(57) Тренировка в Процессуальных Инструкциях
(58) Пресуппозиции (9) Пресуппозиции ресурсных архетипов
Личность - Характер - Социальные роли
(59) Моделируем личность (2) Self-acceptance and Self-rejection
Сознание - Подсознание - Бессознательное - Части
(60) Подсознание (16) Подсознание ЧА vs ИИ
(61) Модель субличности (17) Примеры. Языкоидное ускорение развития
(62) Сознание (34) Сознание = процесс квантования
(63) Бодрствующее сознание внутри сна (2) транс внутри сна
(64) Реальность (5) Калибровка «реальности»
(65) Транс-деривационный уровень/ процесс/ поиск (9) Диалектика
Процессы
(66) Представление - Фантазия - Реальность - Субъективная реальность (4) Туннели реальности
(67) Представление (3) Феномен «Pokemon Go»
(68) Воображение/фантазия (3) Феномен «Pokemon Go»
(69) Моделируем ВНИМАНИЕ (9) Влияние ENS
(70) Моделируем Намерение (3) Действие Намерения через мысли и память
(71) Моделируем волю (3) Воля vs стресс
(72) Состояния (4) Как вы делаете свое релаксирование
(73) Модел. эмоции (27) Bodily sensations give rise to conscious feelings
(74) А память моделировали? (9) Управление памятью: глазами, ногами и страхом
(75) Моделируем мышление (10) Онтология мышления
(76) Планирование (1) Планирование животных vs человека
(77) Образование -обучение (12) Страх к математике
(78) Эффективность обучения (1) Тестирование эффективности тренингов и семинаров (НЛП)
(79) Структура ощущений (1) Структура внутренних ощущений
(80) Медитация (3) Вкл. для теломеров
(81) Понимание (2) Непонимание <> понимание
(82) Моделируем "рефлексию" (1) Мета самосознание - мета мета сознание
(83) Диссоциация - ассоциация (1) Онтология диссоциаций
Отзеркаливание. Раппорт
(84) Отзеркаливание (23) Нет границ отзеркаливанию
(85) Многоуровневый раппорт (7) ВЕДЕНИЕ - СЛЕДОВАНИЕ
Движение
(86) Mobilis in mobile (27) Слова бывают только вместе с жестом, или тоном голоса, или чем-то в этом роде
(87) Моделирование идеомоторики (5) Процесс идеомоторики
(88) Шагаю, следовательно, существую (2) Чтобы построить карту местности, мозг считает шаги.
Интерфейсы
(89) Три главных интерфейса НЛП пятого поколения
(90) коммуникация ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
(91) Интерфейс (12) Тандемный интерфейс для пенальти
(92) Коммуникативные интерфейсы техник и упражнений НЛП (2)
(93) Смотреть на/сквозь руки-коммуникация (1) от М. Али до Гибсона и М. Эриксона
(94) Экспрессия искусственных лицевых интерфейсов (5)
(95) Интерфейсы DHE (6) Чинил часы с маятником для реабилитации после инсульта
Работа с первоисточниками
(96) His voice goes with us (14.2) U.C.L.A - Philadelphia - Pasadena - Chicago - San Diego
(97) Работа с первоисточниками 16. "Reframing": пробный заход
(98) "Whispering in the Wind" (11) Очередное уточнение понятий
(99) Читаем-анализируем: "Steps to an Ecology of Emergence" (5) An Ecology of Mind
(100) Читаем-анализируем: "The Sins* of the Fathers"2
(101) Перевод книги, ответы на вопросы и обсуждение идей. Science and Human Behavior, B.F. Skinner
(102) SO CALLED LOGICAL LEVELS AND SYSTEMIC NLP. INTRO
(103) Модель стратегического чтения
(104) Читаем Грегори Бейтсона (7)
(105) Просветленка (2) попытка обзора
(106) Библиографический список The Structure of Magic Vol I ?
(107) Варианты реинкарнации НЛП
(108) THE SYNTAX OF BEHAVIOR (5) МЫШЛЕНИЕ/МАРШРУТ ЖИЗНЬ/ПУТЬ
(109) Интервью со Стивом Андреасом. Six Blind Elephants (I)
(110) Анализируем моделирование по Дилтсу (2)Отзыв на интервью Роберта ДИЛТСА (2) Ответ Джону Гриндеру.
(111) Кто писал первые книги по НЛП vs в чьих текстах и коммуникации больше структурности?
(112) Ричард Бэндлер: "Моделирование – это математический навык"
(113) Цитаты Бандлера (4) в очередной раз разбираемся с ДХЕ
(114) Double bind (6) квинтэссенцию биологической системности, концептуальный и прагматический инструмент
(115) Понимание комиксов: невидимое искусство
(116) Несостоявшаяся работа по главе 13 "Transforming Your Self" Steve Andreas
(117) Новый заход на материалы книги "Transforming Your Self" (5)
Фундаментальные задачи моделирования
(118) Spinning World (5) Which Way do Feelings Spin?
(119) Моделируем ВД - ОВД (7) ВД – VA; AK: [ VK; V; K(?)]
(120) Местоименные позиции восприятия (5) 8 местоименных позиций vs 4 БиГовских
(121) "Знание" (2) Практические и философские границы знания
(122) Моделируем изучение языка (2) Parlez-vous français?
(123) Моделируем метафоры (5) Системная метафора.
(124) Топология ментального (2) На бульваре Шеридан, из его уст всегда вырывалось имя Шери
(125) St. Neuronet (18) Искусственная Интуиция
Ресурсы
(126) Общие ресурсы НЛП (1)
(127) Страх, фобия, тревога, ПостТравматическое Стрессовое Расстройство (ПТСР) (3) Уточнение соотношений
(128) Источники ресурсов (17) Мета-ресурс. Генеративность. Развитие
(129) Моделируем мотивацию (2) Системная мотивация
(130) Ищем ресурсы в странных опросах (15) вдогонку к "телепатическому общению"
(131) Моделируем РЕСУРСНУЮ МАНИПУЛЯЦИЮ (1) пришло время дать определение
(132) Вариатор (n+5) Источник творческих ресурсов
(133) Лаконизм (1) Начало
(134) Легко на сердце от песни веселой (4) Заставки советских телепередач
(135) Плацебо (8) Нейрология
(136) Пословицы-поговорки (2) забыли/вспомнили про такую тему
(137) Ресурсы ССС (2) Солнечная и геомагнитная активность в роли требовательного антиресурса
(138) Ресурсы логической игры (4) Учимся заполнять графические матрицы
(139) Ресурсы нагвализма (N+5) Сталкинг старости-смерти
(140) Свободен! Наконец-то свободен! (1) Своя ментальность/эмоции – чужая ментальность
Моделирование по следам
(141) Ценностные Иерархии (64) Фромм и ценности
(142) Моделируем тайцзи (24) Нейрология ЦИ
(143) Моделируем психоанализ (5) Онтология психоанализов
(144) Переключение полярностей (4) Эталонный контекст для тренировки/ реализации переключения
Рефрейминги
(145) "Канарейка" (16) Контекст
(146) Отзеркаливание (24) имитировать стиль общения собеседника
(147) Рефрейминг создания НОВОЙ ЧАСТИ (6) Часть, которая замещает архетип старения-смерти
Уникальные процессы
(148) Почему люди смеются? (10)
(149) СебеУлыбка
(150) Моделируем феномены дыхания (5) Вдох vs выдох - носом vs ртом. Страх, эмоции, память
(151) Реликты (9) Волосы проводник шестого чувства
(152) Манипулятивные реликты (2) феномен "глухаря"
(153) Модель им. Самсона (2) Усы способствовали эволюции млекопитающих
(154) Multi-level communication (4) Онтология полифункциональной multilevel communication
(155) За "пределами" тела (3) кольцо на ниточке
(156) Боль это конструкция (1) Позиции субъекта vs оператора
Перемоделирование техник
(157) Реимпринтинг (4) Себе-реимпринтинг + автотехника
(158) Якорение (34) Система «якорь»
(159) "Стирание" якорей2
(160) Моделируем Сущностную Трансформацию (7) сортировка частей
(161) Моделируем Убеждения (2) Бандлер об убеждениях
Перемоделирование первого кода НЛП
(162) Моделируем по книгам первого кода (2)
(163) Глазодвигательный портрет (37) КГД портреты школьной успеваемости
(164) *Моделируем глазодвигатели (35) Влияние ключвых КГД на элементы рисунка/ возможные связи выше
(165) Моделируем сигналинг (3) Три референции: значимо, важно, нравится, да/нет.
(166) Моделируем конгруэнтность (3) Неконгруэнтность разрушает мозг
(167) Uptime (19) Резюмирование некоторых обсуждений и личного опыта
(168) КАВЫЧКИ В КАВЫЧКАХ (1) «… и ведущий сказал мне следующее…»:
Перемоделирование известных премудростей
(169) Моделирование восточных премудростей (8) Реинкарнацию доказал Станислав Гроф
(170) Моделирование харизмы (3) проблемы с харизматическими примерами
(171) Моделируем déjà vu vs jamais vu (2) Будущее – дежавю – понимание
(172) Топографическая гениальность/"кретинизм" (5) Язык аборигенов на севере Австралии vs чип биохакера
(173) Игру моделируем (1) что ты понимаешь под словами серьезный и игра
Оригинальные модели
(174) НЛФил (1) Дигностика отношений на уровнях Грейвза
(175) Моделирование моргания (5) Сопоставление моргания и стыка кадров видео/тв/кино
(176) Вербальное и невербальное владение языком1 vs языком2
(177) Моделируем "Я" (6)Уточняем определения "Я" - Эго - Личность
(178) Модели интеграции на времени (7) Разогнать мозговой «процессор»
(179) Моделирование Aex/in/K звука, проникающего прямо в мозг (4) "Диссонансы" + "обратный" стерео эффект
(180) Модель глупости. (модели повседневной патологии)
(181) Универсальная грамматика жестов (= бессознательного) (2.2) Обратная польская нотация
(182) Моделируем EMDR (22) EMDR Therapy Annotated Research Bibliography (2016)
(183) Вестибулярное восприятие (1)
(184) Запахов восприятие (1)
(185) Мысли в социальном смысле (2)
(186) Лево -правая экспрессия (33) ЛП-экспрессия по ходу "одновременного" рисования
(187) Якорь СЛЕВА - якорь СПРАВА (7) Якоря-"скобки". Масштаб повторов.
(188) Декодер (20) Необходимые/ типовые эффективные онтологии декордера
(189) Декодер абстрактных описаний (1)
(190) Перевод техник в автоматический режим (5)
(191) Моделируем ЯЗ* (3.2) Thought Moments (with eye tracking)
(192) Языкоиды (37) Тигр Тигр . горящий ярко ,
(193) Дискурс (1) Упражнения по сборке пакета разговорных (текстовых) языкоидов Эриксона
(194) Разметка под кодовое отзеркаливание (1) язык*змеи
(195) Обучение дактильному алфавиту (7) Здесь каждый говорит на языке жестов.
(196) *Зрение лягушки (14)
(197) Довольство Богатство Благополучие Здоровье (ДББЗ) (3)
(198) СОУВЮР (Cмех - Оптимизм - Улыбка - Веселье - Юмор - Радость) (5) Смех vs агрессия
(199) Магия Удачи. Структура Удачи (7) Калибровка предчувствия –предвидения –предсказания –предугадывания
(200) Телесное счастье (2)
(201) "Паранойя" (6) Из метапрактика в метапикаперы
(202) "Па-па-па-пАм!" (1) Моделируем внутренние звуки музыкантов.
(000) Комплаентность vs коучинг лечебный (2) Соображения по поводу «ценностной медицины»
Этюды моделирования и психотерапия
(203) Этюды моделирования (35) Ресурсы трезвомыслия
(204) Уточняем технику мета-системного видения
(205) Горчичное зерно изменений (2) Личностная история - убеждения - личность
(206) Эффективность Моделирующей Психотерапии (42) Калибровка эффективности психотерапии
(207) Жизнь без головной боли - MindSpa
(208) Был аналогичный случай (3)
(209) Три прорывные терапии (3)
Модальности восприятия. Субмодальности
(210) Каковы предикаты Ad
(211) Bigger and brighter (32) Рекламные субмодальности
(212) Структура звукового мира (1) Кузнечики и цикады
Биологическая Обратная Связь
(213) Биологическая Обратная Связь (6) БОС на интеллект
Техника
(214) Техника (N) Демонстрационное/ учебное проведение техники
Упражнения
(215) Упражнения (5) упражнения/техники от Стива Андреаса (2)
Калибровки
(216) Многоликая калибровка человеческой активности (ЧА) (8) Софт калибровки Сердечно Сосудистой Системы
(217) He can always tell the truth (23) Этот лживый детектор лжи или миф о полиграфе
Сводные темы
(218) Сводная тема (53) Дуальность Искусственного Интеллекта
Групповые занятия и встречи
(219) Встреча Метапрактиков в Питере 29/01 19:30- 6ШР
(220) Встречи моделирования4
(221) Научиться играть на саксофоне
(222) Лаборатория Metapractice (36) Москва, 27.03.17, авторефрейминг
(223) Лаборатория метапрактики в Москве (2)
Обзоры и критика
(224) /metapractice.ru/wiki/ (1)
(225) Ссылки на интересные дискуссии за пределами metapractice/openmeta
(226) Понемногу обо всем (56) Раз, два, три, четыре, пять, вышел нелпер погулять. Или НЛП-4
(227) Прогуливаясь по прежним местам, кое-что прихватил10
(228) Кунсткамера MetaPractice (45) создать что-то более эффективное, чем НЛП
(229) НЛП 3.0 (7) 3rd Generation NLP, 3G NLP
(230) Даем справку (3) контуры "граммофона"
(231) Интегральность ментальная и социальная (1) или наши ссылки на тему интегральной движухи
(232) А вы, друзья, как не садитесь, в сверхчеловеки не годитесь! (2)
(233) Metapractice: краткая инструкция
Административные темы
(234) Статьи в Metapractice Wiki (2) История НЛП
(235) Спящие темы
(236) Правила ведения диалогов MetaPractice (3)
(237) Оракул metapractice (48)
(238) Техническое OFF (14) Вкратце про вики
(239) Платный аккаунт 18/05/2012
(240) Объявления (1) удаление наших текстов без предупреждения
(241) Зеркало metapractice (1)
Ушедшие предшественники
(242) Steve passed away last Friday morning, September 7th
Поиск по архиву жж
https://ljsear.ch/
http://ljsearch.metapractice.ru/
Сунь Лутан
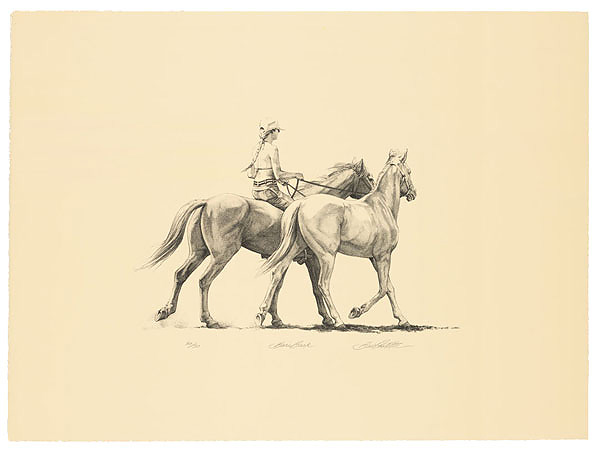
База моделирования
(1) Иное моделирование (54) Плацебо - ключ к моделированию
(2) Определения для моделирования (17) Талант/ талантливость – Гений/ гениальность
(3) Подсознательное мышление (4) Интуитивное мышление
(4) Буквализм/ literalism (23) Вербальный буквализм приравнивается к действию
(5) Organ Language (1) Начало такой известной и давно актуальной темы.
(6) ДЕПРОГРАММИРОВАНИЕ (3) антиресурсное программирование vs ресурное п. + депрограммирование
(7) Феномены/паттерны ЧА (8) ЦИ пример системного ЧА-феномена
(8) Моделируем интериоризацию (3) ведение картотеки
(9) Моделируем форму-процесс содержание (8) Мышление – «процесс. Интеллект – «содержание»
(10) Клон vs Модель
(11) Словарь (6) Модель-конструкция. Аксиоматика моделирования
(12) The nature of hypnosis (20) Качественные признаки транса
(13) Программирование для моделирования ЧА (5)
(14) Онтологии ЧА (1) Онтологизация ЧА есть средство генерации изменений субстрата
(15) Человек с разных точек зрения (1) Про людей - про Вас
(16) Первичное моделирование (2) Между экспериментаторами и подопытными
(17) «Чтение мыслей» (1) В "плохом" и хорошем смысле
(18) Биокомпьютинг (2) Единственная продуктивная модель коллективного обучения
(19) Эпистемология моделирования (4) Моделирование ЧА vs ИИ
(20) «Тебе»/ «себе» модель ЧА (1) «Тебе»/ «себе» - это не только коммуникация
(21) Онтология высших ментальных процессов (2) Ментальные процессы ЧА vs ИИ
(22) Ментальные инструменты (2) Ментальные инструменты ЧА vs ИИ
Типы моделирования
(23) Лоренцовское моделирование (5) Сигналы-стимулы и активация стереотипов
(24) Бейтсоновское моделирование (10)
(25) Коржибского моделирование (5) Наука и психическое здоровье
(26) Скиннеровское моделирование (26) Нейрология операнта
(27) Гибсоновское моделирование (4)
(28) Моделирование ТРИЗ (1) Психологическая составляющая
(29) Лингвистические модели (7) SWISH
(30) Моделирование этических/идеологических систем (1) liberty
(31) Инженерия психики (1) В каком смысле - "архитектура коллектива"
(32) Исполнитель - подчинённый - (1) командир – начальник – руководитель – управленец – мастер – лидер
(33) Карго-моделирование (2) Эмерджентность нейро сетевых свойств
Предпосылки моделирования
(34) Правило Трех Конкретных Примеров (ТКП) (1) Может быть организуем регулярную практику ТКП
(35) Моделирование нейрологии (7) Психическая энергия
(36) Моделируем упаковку информации (2) различные синтаксисы для одной семантики
(37) НЛ_Программирование vs Моделирование (2) подсознательная загрузка программ
(38) Четыре типа ТРЕБОВАНИЙ экологии на ТРЕХ системных уровнях
(39) Координаты на карте полянок-2
(40) The NLP Research and Recognition Project (R & R)
Практика - Метапрактика - Метапрактика Про
(41) Мета-модель (4) Вопросы мета-модели поверхностной структуры ЦИ
(42) Магия появления моделиста (46) Тренируемся
(43) Righting the Modeling Conveyor Belt (15) Уточняем базовые определения
(44) «Precision model» (5) Вопросы для извлечения системной информации
(45) Практика, Метапрактика и Метапрактика PRO (13) Само программирование
(46) We will metapractice you! (18) Само программирование
(47) Путеводитель по ассортименту школ развития3
(48) Пси-война - пси-защита (1) "De Conspiratione"
(00) Моделируем "meta experience" (2) What is the Experience of “Meta”
Metapractice на YouTube
(49) Metapractica (7) Осознанные тренировки - полупроизвольные навыки - автоматизмы
(50) Вебинары и видеокурсы Metapractice
Пресуппозиции и Процессуальные инструкции
(51) Подведение к техникам (6) приближаясь к точности
(52) Обновление в базовых в пресуппозициях НЛП (3) Пресуппозиции от Грегори Бейтсона
(53) Базовые пресуппозиции моделирования (8) Моделирование vs когнитив. программ. субъективной реальности
(54) Тренировка и пресуппозиции при работе с сигналами (7) Маятник ССС
(55) Пресуппозиции (8) Пресуппозиции есть? А если найду? :)
(56) Упражнения на пресуппозиции (3) Структура калибровки
(57) Тренировка в Процессуальных Инструкциях
(58) Пресуппозиции (9) Пресуппозиции ресурсных архетипов
Личность - Характер - Социальные роли
(59) Моделируем личность (2) Self-acceptance and Self-rejection
Сознание - Подсознание - Бессознательное - Части
(60) Подсознание (16) Подсознание ЧА vs ИИ
(61) Модель субличности (17) Примеры. Языкоидное ускорение развития
(62) Сознание (34) Сознание = процесс квантования
(63) Бодрствующее сознание внутри сна (2) транс внутри сна
(64) Реальность (5) Калибровка «реальности»
(65) Транс-деривационный уровень/ процесс/ поиск (9) Диалектика
Процессы
(66) Представление - Фантазия - Реальность - Субъективная реальность (4) Туннели реальности
(67) Представление (3) Феномен «Pokemon Go»
(68) Воображение/фантазия (3) Феномен «Pokemon Go»
(69) Моделируем ВНИМАНИЕ (9) Влияние ENS
(70) Моделируем Намерение (3) Действие Намерения через мысли и память
(71) Моделируем волю (3) Воля vs стресс
(72) Состояния (4) Как вы делаете свое релаксирование
(73) Модел. эмоции (27) Bodily sensations give rise to conscious feelings
(74) А память моделировали? (9) Управление памятью: глазами, ногами и страхом
(75) Моделируем мышление (10) Онтология мышления
(76) Планирование (1) Планирование животных vs человека
(77) Образование -обучение (12) Страх к математике
(78) Эффективность обучения (1) Тестирование эффективности тренингов и семинаров (НЛП)
(79) Структура ощущений (1) Структура внутренних ощущений
(80) Медитация (3) Вкл. для теломеров
(81) Понимание (2) Непонимание <> понимание
(82) Моделируем "рефлексию" (1) Мета самосознание - мета мета сознание
(83) Диссоциация - ассоциация (1) Онтология диссоциаций
Отзеркаливание. Раппорт
(84) Отзеркаливание (23) Нет границ отзеркаливанию
(85) Многоуровневый раппорт (7) ВЕДЕНИЕ - СЛЕДОВАНИЕ
Движение
(86) Mobilis in mobile (27) Слова бывают только вместе с жестом, или тоном голоса, или чем-то в этом роде
(87) Моделирование идеомоторики (5) Процесс идеомоторики
(88) Шагаю, следовательно, существую (2) Чтобы построить карту местности, мозг считает шаги.
Интерфейсы
(89) Три главных интерфейса НЛП пятого поколения
(90) коммуникация ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
(91) Интерфейс (12) Тандемный интерфейс для пенальти
(92) Коммуникативные интерфейсы техник и упражнений НЛП (2)
(93) Смотреть на/сквозь руки-коммуникация (1) от М. Али до Гибсона и М. Эриксона
(94) Экспрессия искусственных лицевых интерфейсов (5)
(95) Интерфейсы DHE (6) Чинил часы с маятником для реабилитации после инсульта
Работа с первоисточниками
(96) His voice goes with us (14.2) U.C.L.A - Philadelphia - Pasadena - Chicago - San Diego
(97) Работа с первоисточниками 16. "Reframing": пробный заход
(98) "Whispering in the Wind" (11) Очередное уточнение понятий
(99) Читаем-анализируем: "Steps to an Ecology of Emergence" (5) An Ecology of Mind
(100) Читаем-анализируем: "The Sins* of the Fathers"2
(101) Перевод книги, ответы на вопросы и обсуждение идей. Science and Human Behavior, B.F. Skinner
(102) SO CALLED LOGICAL LEVELS AND SYSTEMIC NLP. INTRO
(103) Модель стратегического чтения
(104) Читаем Грегори Бейтсона (7)
(105) Просветленка (2) попытка обзора
(106) Библиографический список The Structure of Magic Vol I ?
(107) Варианты реинкарнации НЛП
(108) THE SYNTAX OF BEHAVIOR (5) МЫШЛЕНИЕ/МАРШРУТ ЖИЗНЬ/ПУТЬ
(109) Интервью со Стивом Андреасом. Six Blind Elephants (I)
(110) Анализируем моделирование по Дилтсу (2)Отзыв на интервью Роберта ДИЛТСА (2) Ответ Джону Гриндеру.
(111) Кто писал первые книги по НЛП vs в чьих текстах и коммуникации больше структурности?
(112) Ричард Бэндлер: "Моделирование – это математический навык"
(113) Цитаты Бандлера (4) в очередной раз разбираемся с ДХЕ
(114) Double bind (6) квинтэссенцию биологической системности, концептуальный и прагматический инструмент
(115) Понимание комиксов: невидимое искусство
(116) Несостоявшаяся работа по главе 13 "Transforming Your Self" Steve Andreas
(117) Новый заход на материалы книги "Transforming Your Self" (5)
Фундаментальные задачи моделирования
(118) Spinning World (5) Which Way do Feelings Spin?
(119) Моделируем ВД - ОВД (7) ВД – VA; AK: [ VK; V; K(?)]
(120) Местоименные позиции восприятия (5) 8 местоименных позиций vs 4 БиГовских
(121) "Знание" (2) Практические и философские границы знания
(122) Моделируем изучение языка (2) Parlez-vous français?
(123) Моделируем метафоры (5) Системная метафора.
(124) Топология ментального (2) На бульваре Шеридан, из его уст всегда вырывалось имя Шери
(125) St. Neuronet (18) Искусственная Интуиция
Ресурсы
(126) Общие ресурсы НЛП (1)
(127) Страх, фобия, тревога, ПостТравматическое Стрессовое Расстройство (ПТСР) (3) Уточнение соотношений
(128) Источники ресурсов (17) Мета-ресурс. Генеративность. Развитие
(129) Моделируем мотивацию (2) Системная мотивация
(130) Ищем ресурсы в странных опросах (15) вдогонку к "телепатическому общению"
(131) Моделируем РЕСУРСНУЮ МАНИПУЛЯЦИЮ (1) пришло время дать определение
(132) Вариатор (n+5) Источник творческих ресурсов
(133) Лаконизм (1) Начало
(134) Легко на сердце от песни веселой (4) Заставки советских телепередач
(135) Плацебо (8) Нейрология
(136) Пословицы-поговорки (2) забыли/вспомнили про такую тему
(137) Ресурсы ССС (2) Солнечная и геомагнитная активность в роли требовательного антиресурса
(138) Ресурсы логической игры (4) Учимся заполнять графические матрицы
(139) Ресурсы нагвализма (N+5) Сталкинг старости-смерти
(140) Свободен! Наконец-то свободен! (1) Своя ментальность/эмоции – чужая ментальность
Моделирование по следам
(141) Ценностные Иерархии (64) Фромм и ценности
(142) Моделируем тайцзи (24) Нейрология ЦИ
(143) Моделируем психоанализ (5) Онтология психоанализов
(144) Переключение полярностей (4) Эталонный контекст для тренировки/ реализации переключения
Рефрейминги
(145) "Канарейка" (16) Контекст
(146) Отзеркаливание (24) имитировать стиль общения собеседника
(147) Рефрейминг создания НОВОЙ ЧАСТИ (6) Часть, которая замещает архетип старения-смерти
Уникальные процессы
(148) Почему люди смеются? (10)
(149) СебеУлыбка
(150) Моделируем феномены дыхания (5) Вдох vs выдох - носом vs ртом. Страх, эмоции, память
(151) Реликты (9) Волосы проводник шестого чувства
(152) Манипулятивные реликты (2) феномен "глухаря"
(153) Модель им. Самсона (2) Усы способствовали эволюции млекопитающих
(154) Multi-level communication (4) Онтология полифункциональной multilevel communication
(155) За "пределами" тела (3) кольцо на ниточке
(156) Боль это конструкция (1) Позиции субъекта vs оператора
Перемоделирование техник
(157) Реимпринтинг (4) Себе-реимпринтинг + автотехника
(158) Якорение (34) Система «якорь»
(159) "Стирание" якорей2
(160) Моделируем Сущностную Трансформацию (7) сортировка частей
(161) Моделируем Убеждения (2) Бандлер об убеждениях
Перемоделирование первого кода НЛП
(162) Моделируем по книгам первого кода (2)
(163) Глазодвигательный портрет (37) КГД портреты школьной успеваемости
(164) *Моделируем глазодвигатели (35) Влияние ключвых КГД на элементы рисунка/ возможные связи выше
(165) Моделируем сигналинг (3) Три референции: значимо, важно, нравится, да/нет.
(166) Моделируем конгруэнтность (3) Неконгруэнтность разрушает мозг
(167) Uptime (19) Резюмирование некоторых обсуждений и личного опыта
(168) КАВЫЧКИ В КАВЫЧКАХ (1) «… и ведущий сказал мне следующее…»:
Перемоделирование известных премудростей
(169) Моделирование восточных премудростей (8) Реинкарнацию доказал Станислав Гроф
(170) Моделирование харизмы (3) проблемы с харизматическими примерами
(171) Моделируем déjà vu vs jamais vu (2) Будущее – дежавю – понимание
(172) Топографическая гениальность/"кретинизм" (5) Язык аборигенов на севере Австралии vs чип биохакера
(173) Игру моделируем (1) что ты понимаешь под словами серьезный и игра
Оригинальные модели
(174) НЛФил (1) Дигностика отношений на уровнях Грейвза
(175) Моделирование моргания (5) Сопоставление моргания и стыка кадров видео/тв/кино
(176) Вербальное и невербальное владение языком1 vs языком2
(177) Моделируем "Я" (6)Уточняем определения "Я" - Эго - Личность
(178) Модели интеграции на времени (7) Разогнать мозговой «процессор»
(179) Моделирование Aex/in/K звука, проникающего прямо в мозг (4) "Диссонансы" + "обратный" стерео эффект
(180) Модель глупости. (модели повседневной патологии)
(181) Универсальная грамматика жестов (= бессознательного) (2.2) Обратная польская нотация
(182) Моделируем EMDR (22) EMDR Therapy Annotated Research Bibliography (2016)
(183) Вестибулярное восприятие (1)
(184) Запахов восприятие (1)
(185) Мысли в социальном смысле (2)
(186) Лево -правая экспрессия (33) ЛП-экспрессия по ходу "одновременного" рисования
(187) Якорь СЛЕВА - якорь СПРАВА (7) Якоря-"скобки". Масштаб повторов.
(188) Декодер (20) Необходимые/ типовые эффективные онтологии декордера
(189) Декодер абстрактных описаний (1)
(190) Перевод техник в автоматический режим (5)
(191) Моделируем ЯЗ* (3.2) Thought Moments (with eye tracking)
(192) Языкоиды (37) Тигр Тигр . горящий ярко ,
(193) Дискурс (1) Упражнения по сборке пакета разговорных (текстовых) языкоидов Эриксона
(194) Разметка под кодовое отзеркаливание (1) язык*змеи
(195) Обучение дактильному алфавиту (7) Здесь каждый говорит на языке жестов.
(196) *Зрение лягушки (14)
(197) Довольство Богатство Благополучие Здоровье (ДББЗ) (3)
(198) СОУВЮР (Cмех - Оптимизм - Улыбка - Веселье - Юмор - Радость) (5) Смех vs агрессия
(199) Магия Удачи. Структура Удачи (7) Калибровка предчувствия –предвидения –предсказания –предугадывания
(200) Телесное счастье (2)
(201) "Паранойя" (6) Из метапрактика в метапикаперы
(202) "Па-па-па-пАм!" (1) Моделируем внутренние звуки музыкантов.
(000) Комплаентность vs коучинг лечебный (2) Соображения по поводу «ценностной медицины»
Этюды моделирования и психотерапия
(203) Этюды моделирования (35) Ресурсы трезвомыслия
(204) Уточняем технику мета-системного видения
(205) Горчичное зерно изменений (2) Личностная история - убеждения - личность
(206) Эффективность Моделирующей Психотерапии (42) Калибровка эффективности психотерапии
(207) Жизнь без головной боли - MindSpa
(208) Был аналогичный случай (3)
(209) Три прорывные терапии (3)
Модальности восприятия. Субмодальности
(210) Каковы предикаты Ad
(211) Bigger and brighter (32) Рекламные субмодальности
(212) Структура звукового мира (1) Кузнечики и цикады
Биологическая Обратная Связь
(213) Биологическая Обратная Связь (6) БОС на интеллект
Техника
(214) Техника (N) Демонстрационное/ учебное проведение техники
Упражнения
(215) Упражнения (5) упражнения/техники от Стива Андреаса (2)
Калибровки
(216) Многоликая калибровка человеческой активности (ЧА) (8) Софт калибровки Сердечно Сосудистой Системы
(217) He can always tell the truth (23) Этот лживый детектор лжи или миф о полиграфе
Сводные темы
(218) Сводная тема (53) Дуальность Искусственного Интеллекта
Групповые занятия и встречи
(219) Встреча Метапрактиков в Питере 29/01 19:30- 6ШР
(220) Встречи моделирования4
(221) Научиться играть на саксофоне
(222) Лаборатория Metapractice (36) Москва, 27.03.17, авторефрейминг
(223) Лаборатория метапрактики в Москве (2)
Обзоры и критика
(224) /metapractice.ru/wiki/ (1)
(225) Ссылки на интересные дискуссии за пределами metapractice/openmeta
(226) Понемногу обо всем (56) Раз, два, три, четыре, пять, вышел нелпер погулять. Или НЛП-4
(227) Прогуливаясь по прежним местам, кое-что прихватил10
(228) Кунсткамера MetaPractice (45) создать что-то более эффективное, чем НЛП
(229) НЛП 3.0 (7) 3rd Generation NLP, 3G NLP
(230) Даем справку (3) контуры "граммофона"
(231) Интегральность ментальная и социальная (1) или наши ссылки на тему интегральной движухи
(232) А вы, друзья, как не садитесь, в сверхчеловеки не годитесь! (2)
(233) Metapractice: краткая инструкция
Административные темы
(234) Статьи в Metapractice Wiki (2) История НЛП
(235) Спящие темы
(236) Правила ведения диалогов MetaPractice (3)
(237) Оракул metapractice (48)
(238) Техническое OFF (14) Вкратце про вики
(239) Платный аккаунт 18/05/2012
(240) Объявления (1) удаление наших текстов без предупреждения
(241) Зеркало metapractice (1)
Ушедшие предшественники
(242) Steve passed away last Friday morning, September 7th
Поиск по архиву жж
https://ljsear.ch/
http://ljsearch.metapractice.ru/
"Если вы решили медитировать, это не будет медитацией. Если вы намерены быть добрым – доброта не расцветёт никогда. Если культивируете смирение, его не будет. Медитация подобна ветру, который входит, когда вы оставляете окно открытым; но если вы намеренно открываете его, если вы сами приглашаете её войти, она никогда не появится.
Медитация – не путь мысли, ведь мысль – это изощрённость и хитрость, с бесконечными возможностями самообмана, так что мысли не выйти на путь медитации. Медитацией – как и любовью – нельзя заниматься.
Река в то утро была очень спокойна. Вы могли видеть на её поверхности отражения облаков и всходов озимой пшеницы и леса на той стороне. Даже лодка рыбака, казалось, не нарушала покоя реки. Утренняя тишина лежала на земле. Над верхушками деревьев только что восходило солнце; издалека слышался чей-то голос; где-то поблизости в воздухе звучал распев санскрита.
Попугаи и скворцы-майны ещё не начали искать пищу; стервятники, угрюмые, с голыми шеями сидели на верхушке дерева, ожидая, что по реке поплывёт падаль. Часто было видно, как вниз по реке плывёт какое-то мёртвое животное, и стервятник или двое уже сидят на нём, а вокруг суетятся вороны – в надежде ухватить кусочек. Собака бросалась в воду и плыла к туше, но не находя под ногами опоры, возвращалась на берег и уходила. Мимо проходил поезд, и на весьма длинном мосту слышался грохот стали. А за ним, выше по реке, лежал город.
Утро было наполнено спокойной радостью. Нищета, болезни и боль ещё не шагали по дороге. Через ручеёк был переброшен неустойчивый мостик; считалось, что там, где этот ручеёк грязно-коричневого цвета впадает в большую реку, находится самое священное место; по праздникам туда для омовений приходили мужчины, женщины и дети. Было прохладно, но они как будто не обращали на это внимания. Жрец храма, расположенного через дорогу собирал много денег; так начиналось уродство".
Медитация – не путь мысли, ведь мысль – это изощрённость и хитрость, с бесконечными возможностями самообмана, так что мысли не выйти на путь медитации. Медитацией – как и любовью – нельзя заниматься.
Река в то утро была очень спокойна. Вы могли видеть на её поверхности отражения облаков и всходов озимой пшеницы и леса на той стороне. Даже лодка рыбака, казалось, не нарушала покоя реки. Утренняя тишина лежала на земле. Над верхушками деревьев только что восходило солнце; издалека слышался чей-то голос; где-то поблизости в воздухе звучал распев санскрита.
Попугаи и скворцы-майны ещё не начали искать пищу; стервятники, угрюмые, с голыми шеями сидели на верхушке дерева, ожидая, что по реке поплывёт падаль. Часто было видно, как вниз по реке плывёт какое-то мёртвое животное, и стервятник или двое уже сидят на нём, а вокруг суетятся вороны – в надежде ухватить кусочек. Собака бросалась в воду и плыла к туше, но не находя под ногами опоры, возвращалась на берег и уходила. Мимо проходил поезд, и на весьма длинном мосту слышался грохот стали. А за ним, выше по реке, лежал город.
Утро было наполнено спокойной радостью. Нищета, болезни и боль ещё не шагали по дороге. Через ручеёк был переброшен неустойчивый мостик; считалось, что там, где этот ручеёк грязно-коричневого цвета впадает в большую реку, находится самое священное место; по праздникам туда для омовений приходили мужчины, женщины и дети. Было прохладно, но они как будто не обращали на это внимания. Жрец храма, расположенного через дорогу собирал много денег; так начиналось уродство".
https://metapractice.livejournal.com/556760.html
Медитация и действие
http://eroskosmos.org/meditation-and-action/?fbclid=IwAR1o3CHMl0YK7u2gvep2_XAeaeVWztF81PaFYZCxUOJTAZQNNj-ma-eLCOo
Каково место действия в созерцательной практике? Это один из ключевых вопросов, без понимания которого успешная практика становится либо крайне ограниченной, либо вообще невозможной. Попробуем разобраться.
Прежде всего нужно понять, что понимается под действием. В этом вопросе наш язык обманчив, поскольку обычно действия выражаются такой грамматической категорией, как глагол, но не всегда глагол обозначает действие. Например, когда я встаю и иду, то «идти» обозначает действие, а вот когда на улице идёт дождь или по телевизору идёт шоу, то «идти» обозначает не вовсе действие, а некоторый безличный процесс и в таком случае слово «идти» — метафора, основанная на пространственно-временных отношениях. Применительно к психическим событиям, например, «подумать» — это действие, а «разгневаться» нет.

Действие в нашем контексте подразумевает некоторую активность субъекта, то есть нас самих, связанную с намерением и усилием. Например, у меня возникает раздражающее ощущение на голове и соответствующее намерение от него избавиться, что влечёт действие, требующее усилия: я чешу затылок. Или же у меня есть намерение выразить свою эмоцию и я произношу соответствующие слова. Или я намерен найти свой телефон и для этого направляю своё внимание на воспоминание о недавних событиях, когда я им пользовался.
Здесь важно различать ситуации, когда мы вовлечены в происходящее и активно действуем с намерением и усилием, от тех ситуаций, где мы также вовлечены в происходящее, но наша вовлечённость заключается а) в желании получения некоторого результата и б) в чувстве ожидания этого результата. В этом случае действия никакого нет, но есть иллюзия того, что мы чем-то заняты. Например, мы хотим попить чая и нам нужно вскипятить воду. Мы наливаем воду в электрочайник и нажимаем кнопку. На этом наши действия заканчиваются, но если желание чая настолько сильное, что мы никак не можем дождаться, пока вода закипит, нам может казаться, будто во время подогрева воды мы страшно заняты, хотя на самом деле мы ничего не делаем и наша вовлечённость, желание и вызванное этим напряжение никак не помогают скорейшему закипанию. Во многих созерцательных практиках желание и ожидание результата не только не способствует успеху, но, напротив, зачастую становится решающим препятствием. Есть созерцательные практики, в которых мы непрерывно поддерживаем некоторое активное усилие. Например, в некоторых методах визуализации (не во всех) нам необходимо всё время поддерживать в уме присутствие требуемого образа. Есть практики, которые подобны варке кофе в джезве, когда мы большей частью ничего не делаем, но сохраняем бдительность и, когда требуется, снимаем джезву с огня, чтобы кофе не убежал, а потом снова ставим её на огонь. Например, когда мы только осваиваем однонаправленное сосредоточение, то нам нужно бдительно следить за тем, чтобы ум не убегал, и всё время возвращать внимание на место. Конечно, поддержание бдительности тоже требует некоторого усилия, но это несравнимо с усилием, идущим на возвращение ума из отвлечения. А есть практики, которые похожи на кипячение воды в электрочайнике или приготовление кофе в автомате: мы совершаем все нужные приготовления, а дальше расслабляемся, но не мучаем себя бессмысленным ожиданием, а просто замечаем, когда все автоматические процессы завершатся и мы получим нужный результат. Например, в некоторых созерцательных практиках мы просто принимаем необходимую позу, а дальше все процессы запускаются автоматически и нам не нужно ни прилагать усилия, ни поддерживать намерение.
Если мы не понимаем разницу между намеренными действиями и ненамеренными процессами, то, например, стремясь успокоить ум, мы лишь перевозбудим его ненужным усилием или ожиданием результата.
В когнитивных процессах — а медитация является таковым — разница между активным действием, происходящим на основе намерения, и автоматическим процессом, который намерения не требует и происходит в силу законов природы, крайне важна. Простой пример: «смотреть» и «видеть». Первое действие, второе нет. Действие я могу выполнить по команде, процесс — нет. Например, я могу по команде посмотреть вперёд, но я совсем необязательно увижу то, на что хотят обратить моё внимание. Например, у каждого человека есть дефекты роговицы, которые непрерывно находятся в поле зрения и видны как точки, штрихи, закорючки, но есть люди, которые их не видят и никакой командой или усилием такого видения добиться нельзя. В случае психических событий будет существенная разница между командой представить тепло внутри живота и почувствовать такое тепло. Чтобы представить тепло достаточно иметь способность вспоминать тактильные ощущения (хотя не у всех это легко получается и данная способность тоже может нуждаться в предварительном развитии), а вот для того, чтобы действительно почувствовать тепло внутри живота, нам нужно разными средствами запустить цепочку психофизиологических процессов, которые приведут к подобному результату. Естественно, речь идёт не о том тепле, которое находится внутри живота, а том тепле, которое субъективно там ощущается.
И здесь мы сталкиваемся ещё с одной особенностью действия: действия могут подчиняться командам, а процессы нет. Кто-то может возразить: но ведь можно же намеренно остановить сердце, хотя сердцебиение это не действие, а процесс. Можно. Но для этого мы должны освоить выполнение набора команд, результатом выполнения которых и будет последующая приостановка сердечных сокращений. Во многом, человеческое обучение как раз и заключается в обретении навыков намеренного управления автоматическими процессами, но в случае многих созерцательных практик задача стоит противоположная — научиться «отпускать» все процессы и полностью осуществить тотальное прекращение всякого намеренного вмешательства в своё текущее состояние.
Почему важны команды? Особенно, те команды, которые даём себе не мы сами, а кто-то другой. Потому что без них мы не можем научиться медитировать. Вернее, теоретически можем, но тогда нам нужно самостоятельно пройти весь тот длительный путь человеческого развития, который привёл к формированию созерцательной культуры, а на это нам попросту не хватит жизни, равно как не хватило бы жизни, чтобы самостоятельно придумать математику или живопись.
Мы учимся медитировать благодаря командам, инструкциям, наставлениям, которые служат точкой опоры и направляют наши когнитивные процессы. Поэтому важно, чтобы получаемые нами инструкции были точно сформулированы. Например, можно дать человеку набор инструкций, точное следование которым приведёт к прекращению рассудочного словесно-образного мышления, но непосредственная команда перестать думать обычно приводит к прямо противоположному результату и, соответственно, к фрустрации.
Мы всегда получаем инструкции от конкретного человека, будь то устно или письменно, и важно, чтобы этот человек не просто сам что-то умел, но и понимал, каким образом нужно формулировать инструкции, чтобы добиться от ученика нужной реакции и, соответственно, результата. Поэтому в созерцательных традициях огромное внимание уделяется текстам наставлений, где слова очень точно выверены, что уменьшает возможность ошибки. Сейчас мы находимся в процессе переноса наставлений из одной языковой среды в другую, поэтому возрастает роль переводчика, чьи ошибки и неточное понимание могут не только сделать инструкции бесполезными, но даже и принести существенный вред. Например, в тибетском языке для намеренных волевых действий и ненамеренных бессубъектных процессов существуют две разные грамматические категории глаголов. В европейских языках такого категориального различения нет (средства выражения такого различия, конечно же, существуют), поэтому переводчики очень часто совершают ошибки, по неведению привнося идею намеренной активности туда, где она неуместна.
Устная речь передаёт нам намного больше информации, чем письменная, поэтому общение с живым преподавателем намного плодотворнее, не говоря уже о невербальной коммуникации. Квалификация преподавателя это отдельная обширная и важная тема, а пока достаточно понять, что от него требуется точность формулировок, акцентов, интонаций, а также своевременность, поскольку одна и та же инструкция, команда в разных ситуациях может привести к совершенно разным эффектам.
Задача ученика, со своей стороны, убедиться в правильном понимании того, что нужно сделать, и того, чего делать не нужно. Как говорил Витгенштейн, значение слов состоит в их употреблении. Очень часто оказывается, что слова инструкций для нас имеют не тот смысл, который в них вложен, поэтому важно прояснять сомнения, особенно в отношении тех слов, которые обозначают внутренние субъективные психические процессы, ведь именно в этих случаях общее понимание терминов оказывается наиболее затруднительным.
Говоря кратко, при обучении медитации важны две вещи: во-первых, точно выполнить все полученные инструкции, во-вторых, не пытаться сделать то, о чём инструкции не просят.
Конечной целью медитации является созерцание, в котором, как уже говорилось, осуществляется полное прекращение любого намеренного вмешательства в своё состояние. Это полностью противоречит нашей привычке добиваться желаемого через намерение, усилие и действие. «Слабо хочешь, слабо и получишь», «без труда не выловишь рыбку из пруда», «под лежачий камень вода не течёт» и т. д. Собственно говоря, именно в этом и заключается основная сложность созерцательных практик высокого уровня — их методология радикально противоречит нашим привычным представлениям о том, как добиваться успеха. Но если мы действительно хотим научиться созерцанию, то нам важно понять привычные схемы работы нашего ума, различить основные источники напряжений и действий, обнаружить способ исчерпания и прекращения этих действий и в какой-то момент даже перестать хотеть чему-то научиться и перестать желать каких-либо результатов.
Медитация и действие
http://eroskosmos.org/meditation-and-action/?fbclid=IwAR1o3CHMl0YK7u2gvep2_XAeaeVWztF81PaFYZCxUOJTAZQNNj-ma-eLCOo
Каково место действия в созерцательной практике? Это один из ключевых вопросов, без понимания которого успешная практика становится либо крайне ограниченной, либо вообще невозможной. Попробуем разобраться.
Прежде всего нужно понять, что понимается под действием. В этом вопросе наш язык обманчив, поскольку обычно действия выражаются такой грамматической категорией, как глагол, но не всегда глагол обозначает действие. Например, когда я встаю и иду, то «идти» обозначает действие, а вот когда на улице идёт дождь или по телевизору идёт шоу, то «идти» обозначает не вовсе действие, а некоторый безличный процесс и в таком случае слово «идти» — метафора, основанная на пространственно-временных отношениях. Применительно к психическим событиям, например, «подумать» — это действие, а «разгневаться» нет.

Действие в нашем контексте подразумевает некоторую активность субъекта, то есть нас самих, связанную с намерением и усилием. Например, у меня возникает раздражающее ощущение на голове и соответствующее намерение от него избавиться, что влечёт действие, требующее усилия: я чешу затылок. Или же у меня есть намерение выразить свою эмоцию и я произношу соответствующие слова. Или я намерен найти свой телефон и для этого направляю своё внимание на воспоминание о недавних событиях, когда я им пользовался.
Здесь важно различать ситуации, когда мы вовлечены в происходящее и активно действуем с намерением и усилием, от тех ситуаций, где мы также вовлечены в происходящее, но наша вовлечённость заключается а) в желании получения некоторого результата и б) в чувстве ожидания этого результата. В этом случае действия никакого нет, но есть иллюзия того, что мы чем-то заняты. Например, мы хотим попить чая и нам нужно вскипятить воду. Мы наливаем воду в электрочайник и нажимаем кнопку. На этом наши действия заканчиваются, но если желание чая настолько сильное, что мы никак не можем дождаться, пока вода закипит, нам может казаться, будто во время подогрева воды мы страшно заняты, хотя на самом деле мы ничего не делаем и наша вовлечённость, желание и вызванное этим напряжение никак не помогают скорейшему закипанию. Во многих созерцательных практиках желание и ожидание результата не только не способствует успеху, но, напротив, зачастую становится решающим препятствием. Есть созерцательные практики, в которых мы непрерывно поддерживаем некоторое активное усилие. Например, в некоторых методах визуализации (не во всех) нам необходимо всё время поддерживать в уме присутствие требуемого образа. Есть практики, которые подобны варке кофе в джезве, когда мы большей частью ничего не делаем, но сохраняем бдительность и, когда требуется, снимаем джезву с огня, чтобы кофе не убежал, а потом снова ставим её на огонь. Например, когда мы только осваиваем однонаправленное сосредоточение, то нам нужно бдительно следить за тем, чтобы ум не убегал, и всё время возвращать внимание на место. Конечно, поддержание бдительности тоже требует некоторого усилия, но это несравнимо с усилием, идущим на возвращение ума из отвлечения. А есть практики, которые похожи на кипячение воды в электрочайнике или приготовление кофе в автомате: мы совершаем все нужные приготовления, а дальше расслабляемся, но не мучаем себя бессмысленным ожиданием, а просто замечаем, когда все автоматические процессы завершатся и мы получим нужный результат. Например, в некоторых созерцательных практиках мы просто принимаем необходимую позу, а дальше все процессы запускаются автоматически и нам не нужно ни прилагать усилия, ни поддерживать намерение.
Если мы не понимаем разницу между намеренными действиями и ненамеренными процессами, то, например, стремясь успокоить ум, мы лишь перевозбудим его ненужным усилием или ожиданием результата.
В когнитивных процессах — а медитация является таковым — разница между активным действием, происходящим на основе намерения, и автоматическим процессом, который намерения не требует и происходит в силу законов природы, крайне важна. Простой пример: «смотреть» и «видеть». Первое действие, второе нет. Действие я могу выполнить по команде, процесс — нет. Например, я могу по команде посмотреть вперёд, но я совсем необязательно увижу то, на что хотят обратить моё внимание. Например, у каждого человека есть дефекты роговицы, которые непрерывно находятся в поле зрения и видны как точки, штрихи, закорючки, но есть люди, которые их не видят и никакой командой или усилием такого видения добиться нельзя. В случае психических событий будет существенная разница между командой представить тепло внутри живота и почувствовать такое тепло. Чтобы представить тепло достаточно иметь способность вспоминать тактильные ощущения (хотя не у всех это легко получается и данная способность тоже может нуждаться в предварительном развитии), а вот для того, чтобы действительно почувствовать тепло внутри живота, нам нужно разными средствами запустить цепочку психофизиологических процессов, которые приведут к подобному результату. Естественно, речь идёт не о том тепле, которое находится внутри живота, а том тепле, которое субъективно там ощущается.
И здесь мы сталкиваемся ещё с одной особенностью действия: действия могут подчиняться командам, а процессы нет. Кто-то может возразить: но ведь можно же намеренно остановить сердце, хотя сердцебиение это не действие, а процесс. Можно. Но для этого мы должны освоить выполнение набора команд, результатом выполнения которых и будет последующая приостановка сердечных сокращений. Во многом, человеческое обучение как раз и заключается в обретении навыков намеренного управления автоматическими процессами, но в случае многих созерцательных практик задача стоит противоположная — научиться «отпускать» все процессы и полностью осуществить тотальное прекращение всякого намеренного вмешательства в своё текущее состояние.
Почему важны команды? Особенно, те команды, которые даём себе не мы сами, а кто-то другой. Потому что без них мы не можем научиться медитировать. Вернее, теоретически можем, но тогда нам нужно самостоятельно пройти весь тот длительный путь человеческого развития, который привёл к формированию созерцательной культуры, а на это нам попросту не хватит жизни, равно как не хватило бы жизни, чтобы самостоятельно придумать математику или живопись.
Мы учимся медитировать благодаря командам, инструкциям, наставлениям, которые служат точкой опоры и направляют наши когнитивные процессы. Поэтому важно, чтобы получаемые нами инструкции были точно сформулированы. Например, можно дать человеку набор инструкций, точное следование которым приведёт к прекращению рассудочного словесно-образного мышления, но непосредственная команда перестать думать обычно приводит к прямо противоположному результату и, соответственно, к фрустрации.
Мы всегда получаем инструкции от конкретного человека, будь то устно или письменно, и важно, чтобы этот человек не просто сам что-то умел, но и понимал, каким образом нужно формулировать инструкции, чтобы добиться от ученика нужной реакции и, соответственно, результата. Поэтому в созерцательных традициях огромное внимание уделяется текстам наставлений, где слова очень точно выверены, что уменьшает возможность ошибки. Сейчас мы находимся в процессе переноса наставлений из одной языковой среды в другую, поэтому возрастает роль переводчика, чьи ошибки и неточное понимание могут не только сделать инструкции бесполезными, но даже и принести существенный вред. Например, в тибетском языке для намеренных волевых действий и ненамеренных бессубъектных процессов существуют две разные грамматические категории глаголов. В европейских языках такого категориального различения нет (средства выражения такого различия, конечно же, существуют), поэтому переводчики очень часто совершают ошибки, по неведению привнося идею намеренной активности туда, где она неуместна.
Устная речь передаёт нам намного больше информации, чем письменная, поэтому общение с живым преподавателем намного плодотворнее, не говоря уже о невербальной коммуникации. Квалификация преподавателя это отдельная обширная и важная тема, а пока достаточно понять, что от него требуется точность формулировок, акцентов, интонаций, а также своевременность, поскольку одна и та же инструкция, команда в разных ситуациях может привести к совершенно разным эффектам.
Задача ученика, со своей стороны, убедиться в правильном понимании того, что нужно сделать, и того, чего делать не нужно. Как говорил Витгенштейн, значение слов состоит в их употреблении. Очень часто оказывается, что слова инструкций для нас имеют не тот смысл, который в них вложен, поэтому важно прояснять сомнения, особенно в отношении тех слов, которые обозначают внутренние субъективные психические процессы, ведь именно в этих случаях общее понимание терминов оказывается наиболее затруднительным.
Говоря кратко, при обучении медитации важны две вещи: во-первых, точно выполнить все полученные инструкции, во-вторых, не пытаться сделать то, о чём инструкции не просят.
Конечной целью медитации является созерцание, в котором, как уже говорилось, осуществляется полное прекращение любого намеренного вмешательства в своё состояние. Это полностью противоречит нашей привычке добиваться желаемого через намерение, усилие и действие. «Слабо хочешь, слабо и получишь», «без труда не выловишь рыбку из пруда», «под лежачий камень вода не течёт» и т. д. Собственно говоря, именно в этом и заключается основная сложность созерцательных практик высокого уровня — их методология радикально противоречит нашим привычным представлениям о том, как добиваться успеха. Но если мы действительно хотим научиться созерцанию, то нам важно понять привычные схемы работы нашего ума, различить основные источники напряжений и действий, обнаружить способ исчерпания и прекращения этих действий и в какой-то момент даже перестать хотеть чему-то научиться и перестать желать каких-либо результатов.
Супер. )
Списки = Хорошо оформленная цель.
И те и другие содержат пресуппозиции достижения.
И те и другие содержат пресуппозиции достижения.
https://metapractice.livejournal.com/587190.html
Горчичное зерно изменений
И вот, в итоге, всегда так оказывается, что типа математика нелюбима, потому как существует некое "отрицание", например, самих ЦИФР ! Ага, идиосинкразия на цифры. Или на их написание. Или еще на что ПРИМИТИВНОЕ связанное с цифирью (а потом и с формулами, вычислениями и всеми другими "производными"от идиосинкразии на цифры видами деятельности).
https://metapractice.livejournal.com/587190.html
Как сильно вы ненавидите математические задачи? А деление в столбик? Дроби? Мат.анализ?
У множества людей одно лишь упоминание подобных вычислений вызывает ужас и даже, в некотором роде, боль. Исследование![]() психологов Иана Лайона (Ian Lyon) и Шона Билока (Sian Beilock) показало, что это вовсе не преувеличение: нелюбовь к математике у некоторых людей обусловлена тем, что ощущения от необходимости работы с числами сопоставимы с физической болью. Людям, обладающим высокой степенью математической тревоги (high levels of mathematics-anxiety — HMAs), она причиняет физические страдания. https://habr.com/post/157727/
психологов Иана Лайона (Ian Lyon) и Шона Билока (Sian Beilock) показало, что это вовсе не преувеличение: нелюбовь к математике у некоторых людей обусловлена тем, что ощущения от необходимости работы с числами сопоставимы с физической болью. Людям, обладающим высокой степенью математической тревоги (high levels of mathematics-anxiety — HMAs), она причиняет физические страдания. https://habr.com/post/157727/
Вышеупомянутых ученых из Чикагского и Западного университетов, соответственно, заинтересовали схожие исследования, доказавшие, что ощущения, похожие на физическую боль у социально изолированных людей, пропорциональны степени испытываемых ими страха и подавленности![]() . Математика, по мнению ученых, также вызывает у человека порядочную степень тревоги: «Это идеальный полигон для исследования того, как физически безопасные ситуации вызывают нейронный отклик, схожий с реальными болевыми ощущениями».
. Математика, по мнению ученых, также вызывает у человека порядочную степень тревоги: «Это идеальный полигон для исследования того, как физически безопасные ситуации вызывают нейронный отклик, схожий с реальными болевыми ощущениями».
Изначально гипотеза состояла в том, что именно мысль о необходимости заниматься математическими расчетами, а не задача, как таковая, и есть пусковой механизм для страха перед этой процедурой, который, в свою очередь, и вызывает болезненные ощущения.
Ученые попросили участников эксперимента ответить на ряд вопросов о том, как они чувствуют себя перед предстоящими занятиями математикой, разделив их на две группы по 14 человек (с высокой (HMAs) и низкой (LMAs) степенью математической тревоги, соответственно). Критерии для определения ее степени основаны на разработанной специально для этих целей еще в 1972 году простой шкале SMARS![]() (Short Math Anxiety Rating-Scale). Надо отметить, что сам факт существования шкалы SMARS не первое десятилетие уже говорит о том, насколько остро стоит эта проблема в мире психологии.
(Short Math Anxiety Rating-Scale). Надо отметить, что сам факт существования шкалы SMARS не первое десятилетие уже говорит о том, насколько остро стоит эта проблема в мире психологии.
Итак, для проверки гипотезы 28 участников эксперимента получили ряд лингвистических и математических головоломок, во время решения которых их мозг подвергался МРТ-сканированию. Перед каждой последующей серией вопросов участники видели световой сигнал, свидетельствующий о степени сложности задачи и ее принадлежности (язык или математика).
Перед более легкими языковыми и математическими заданиями разницы в нейронном отклике у обеих групп (HMAs/LMAs) выявлено не было, тогда как в решении сложных задач люди менее тревожные в отношении математики показали результаты значительно лучше более тревожных испытуемых. Это вполне логично: в состоянии стресса человек склонен проявлять меньшую результативность в разрешении ситуаций, требующих серьезной умственной деятельности.
Исследуя различия в мозговой деятельности у людей с противоположными полюсами тревоги, Лайон обратил внимание на то, что перед решением сложных математических задач у участников с высоким уровнем тревоги повышалась активность в области островковой доли больших полушарий и среднепоясной коры, после чего решить задачу им было значительно сложнее. В то же время, менее «математически тревожные» участники практически никакой нейронной реакции не показали и легко справлялись с заданием. Важен тот факт, что именно эти участки мозга отвечают за болевые ощущения. Результаты эксперимента показали, что, когда участники с высоким уровнем математической тревоги видели световой сигнал, свидетельствующий о том, что за ним следует сложная математическая задача, мозг, фигурально, предупреждал их о том, что сейчас будет больно.
В заключение, Лайон пишет: «Мы получили первые доказательства, указывающие на нейронную природу математической тревоги. Предыдущие подобные исследования касались в основном социальной изоляции и утверждали, что именно изолированное состояние заставляет человека испытывать боль. Однако, данные нашего эксперимента идут значительно дальше и показывают, что само ожидание грядущего неприятного события влечет за собой нейронную реакцию, отвечающую за болевые ощущения».
Есть мнение, что боль такого рода – неотъемлемая часть человеческой природы, обусловленная определенными эволюционными процессами. Лайон, тем не менее, считает маловероятным тот факт, что «чисто эволюционный механизм вызывает нейронный ответ мозга на перспективу занятий математикой, которая, по сути, является довольно современным культурным явлением». Такой вывод может пролить свет и на другие психологические феномены, в частности, природу фобий.
Поскольку стресс от ожидания, как выяснилось, влияет на работоспособность и эффективность больше, чем сама задача, имеет смысл исследовать альтернативные подходы к преподаванию математики в школе. Возможно, стоит также предусмотреть более простые процессы налоговой отчетности. Зачастую органы власти бьют тревогу, видя статистику математической безграмотности среди взрослого населения, но, возможно, люди не виноваты в том, что не могли сконцентрироваться на школьных уроках математики. Возможно, их просто пугали сами цифры.
https://habr.com/post/157727/

Горчичное зерно изменений
И вот, в итоге, всегда так оказывается, что типа математика нелюбима, потому как существует некое "отрицание", например, самих ЦИФР ! Ага, идиосинкразия на цифры. Или на их написание. Или еще на что ПРИМИТИВНОЕ связанное с цифирью (а потом и с формулами, вычислениями и всеми другими "производными"от идиосинкразии на цифры видами деятельности).
https://metapractice.livejournal.com/587190.html
Как сильно вы ненавидите математические задачи? А деление в столбик? Дроби? Мат.анализ?
У множества людей одно лишь упоминание подобных вычислений вызывает ужас и даже, в некотором роде, боль. Исследование
Вышеупомянутых ученых из Чикагского и Западного университетов, соответственно, заинтересовали схожие исследования, доказавшие, что ощущения, похожие на физическую боль у социально изолированных людей, пропорциональны степени испытываемых ими страха и подавленности
Изначально гипотеза состояла в том, что именно мысль о необходимости заниматься математическими расчетами, а не задача, как таковая, и есть пусковой механизм для страха перед этой процедурой, который, в свою очередь, и вызывает болезненные ощущения.
Ученые попросили участников эксперимента ответить на ряд вопросов о том, как они чувствуют себя перед предстоящими занятиями математикой, разделив их на две группы по 14 человек (с высокой (HMAs) и низкой (LMAs) степенью математической тревоги, соответственно). Критерии для определения ее степени основаны на разработанной специально для этих целей еще в 1972 году простой шкале SMARS
Итак, для проверки гипотезы 28 участников эксперимента получили ряд лингвистических и математических головоломок, во время решения которых их мозг подвергался МРТ-сканированию. Перед каждой последующей серией вопросов участники видели световой сигнал, свидетельствующий о степени сложности задачи и ее принадлежности (язык или математика).
Перед более легкими языковыми и математическими заданиями разницы в нейронном отклике у обеих групп (HMAs/LMAs) выявлено не было, тогда как в решении сложных задач люди менее тревожные в отношении математики показали результаты значительно лучше более тревожных испытуемых. Это вполне логично: в состоянии стресса человек склонен проявлять меньшую результативность в разрешении ситуаций, требующих серьезной умственной деятельности.
Исследуя различия в мозговой деятельности у людей с противоположными полюсами тревоги, Лайон обратил внимание на то, что перед решением сложных математических задач у участников с высоким уровнем тревоги повышалась активность в области островковой доли больших полушарий и среднепоясной коры, после чего решить задачу им было значительно сложнее. В то же время, менее «математически тревожные» участники практически никакой нейронной реакции не показали и легко справлялись с заданием. Важен тот факт, что именно эти участки мозга отвечают за болевые ощущения. Результаты эксперимента показали, что, когда участники с высоким уровнем математической тревоги видели световой сигнал, свидетельствующий о том, что за ним следует сложная математическая задача, мозг, фигурально, предупреждал их о том, что сейчас будет больно.
В заключение, Лайон пишет: «Мы получили первые доказательства, указывающие на нейронную природу математической тревоги. Предыдущие подобные исследования касались в основном социальной изоляции и утверждали, что именно изолированное состояние заставляет человека испытывать боль. Однако, данные нашего эксперимента идут значительно дальше и показывают, что само ожидание грядущего неприятного события влечет за собой нейронную реакцию, отвечающую за болевые ощущения».
Есть мнение, что боль такого рода – неотъемлемая часть человеческой природы, обусловленная определенными эволюционными процессами. Лайон, тем не менее, считает маловероятным тот факт, что «чисто эволюционный механизм вызывает нейронный ответ мозга на перспективу занятий математикой, которая, по сути, является довольно современным культурным явлением». Такой вывод может пролить свет и на другие психологические феномены, в частности, природу фобий.
Поскольку стресс от ожидания, как выяснилось, влияет на работоспособность и эффективность больше, чем сама задача, имеет смысл исследовать альтернативные подходы к преподаванию математики в школе. Возможно, стоит также предусмотреть более простые процессы налоговой отчетности. Зачастую органы власти бьют тревогу, видя статистику математической безграмотности среди взрослого населения, но, возможно, люди не виноваты в том, что не могли сконцентрироваться на школьных уроках математики. Возможно, их просто пугали сами цифры.
https://habr.com/post/157727/
</>
Симтомы - обучение/ воспитание/ развитие - иные запросы
metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)
(1) Клиническая/ медицинская психотерапия по своему первому назначению - должна/ лечит симптомы, синдромы и нозологические единицы из справочников до их устранения/ купирования.
Лечит медицинские симптомы.
(2) Психологическая психотерапия по первому назначению - даже если и берётся за "медицинские" симптомы, для неё важно не их устранение на первом месте, но работа над процессами образования/ обучения, воспитания и развития, (или их компонентами) которые могли быть ограничены теми или иными "медицинскими" симптомами".
Лечит социальные и когнитивные симптомы нарушения обучения, воспитания, развития.
(3) Все иные виды консультирования/ коучинга и т.п. - по первому назначению работают с теми или иными неоформленными и текущими ЗАПРОСАМИ, с которыми обращаются к ним субъекты.
Перерабатывают невероятное разнообразие ЗАПРОСОВ текущей жизни субъектов.
Лечит медицинские симптомы.
(2) Психологическая психотерапия по первому назначению - даже если и берётся за "медицинские" симптомы, для неё важно не их устранение на первом месте, но работа над процессами образования/ обучения, воспитания и развития, (или их компонентами) которые могли быть ограничены теми или иными "медицинскими" симптомами".
Лечит социальные и когнитивные симптомы нарушения обучения, воспитания, развития.
(3) Все иные виды консультирования/ коучинга и т.п. - по первому назначению работают с теми или иными неоформленными и текущими ЗАПРОСАМИ, с которыми обращаются к ним субъекты.
Перерабатывают невероятное разнообразие ЗАПРОСОВ текущей жизни субъектов.
</>
Зарецкий/ Юдин: классическая vs неклассическая наука; М
metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)
Зарецкий/ Юдин: классическая vs неклассическая наука; Мишени психотерапии
В.К. Зарецким была дана обобщенная характеристика современных неклассических наук по ряду параметров [Зарецкий, 1989]: объект, цели, деятельность, тенденции развития, структура знания, субъект. Если классические науки изучают устойчивые природные явления и рассматривают свой объект как относительно неизменный, то неклассические науки имеют дело с объектами, меняющимися в процессе человеческой деятельности и порождаемыми ею (так, доминирующие формы психической патологии непрерывно меняются в процессе развития культуры и общества).
Неклассические науки, в отличие от классических, изучают объект не ради постижения истины, а ради активного влияния на него; в классических науках доминируют процессы специализации, в неклассических — тенденции к интеграции, к вовлечению в свою сферу все новых знаний и методов из смежных наук. Знание в классических науках — это прежде всего знание об объекте изучения. Знание в неклассических науках имеет многослойный
характер — это знания об объекте, знания о методах его исследования и знания о том, как работать с ним. Субъект классический науки — ученый, широко образованный в своей области. Неклассическая наука имеет коллективного субъекта, так как исследования в неклассической науке предполагают взаимодействие специалистов из разных областей, которые хорошо знакомы со спецификой деятельности друг друга. Все эти критерии можно отнести к современным наукам о психическом здоровье: клинической психологии, психиатрии и психотерапии [Холмогорова, 2002].
Идея статуса неклассической, практико-ориентированной науки как особой формы научного знания четко зафиксирована отечественным методологом Э.Г. Юдиным: «В своем отношении к широко применяемой социальной практике наука продолжает оставаться и всегда останется, поскольку это будет именно наука, такой формой духовного производства, которая вырабатывает и предлагает практике теоретически обоснованные идеальные планы и программы деятельности (выделено мной. — А.Х.), независимо от того, выражены ли они в форме теоретических конструкций фундаментальной науки или в инженерноконструктивных схемах» [Юдин, 1978, с. 345].
Важнейшей задачей построения научно-обоснованной психотерапии отдельных расстройств является разработка комплексной модели психической патологии, т.е. изучение и выделение системы психологических факторов, лежащих в основе изучаемых форм патологии и выделения на этой основе системы мишеней психотерапии. Это необходимое условие разработки основ практической деятельности психотерапевта, включающих стратегии (задачи, этапы) и техники, т.е. научно обоснованный план или программу этой деятельности.
Именно такая цель была поставлена автором данной статьи в отношении психотерапии расстройств аффективного спектра: интеграция эмпирических и теоретических знаний под углом зрения практической задачи помощи, т.е. разработка теоретических и эмпирических оснований интегративной психотерапии расстройств аффективного спектра [Холмогорова, 2006].
В.К. Зарецким была дана обобщенная характеристика современных неклассических наук по ряду параметров [Зарецкий, 1989]: объект, цели, деятельность, тенденции развития, структура знания, субъект. Если классические науки изучают устойчивые природные явления и рассматривают свой объект как относительно неизменный, то неклассические науки имеют дело с объектами, меняющимися в процессе человеческой деятельности и порождаемыми ею (так, доминирующие формы психической патологии непрерывно меняются в процессе развития культуры и общества).
Неклассические науки, в отличие от классических, изучают объект не ради постижения истины, а ради активного влияния на него; в классических науках доминируют процессы специализации, в неклассических — тенденции к интеграции, к вовлечению в свою сферу все новых знаний и методов из смежных наук. Знание в классических науках — это прежде всего знание об объекте изучения. Знание в неклассических науках имеет многослойный
характер — это знания об объекте, знания о методах его исследования и знания о том, как работать с ним. Субъект классический науки — ученый, широко образованный в своей области. Неклассическая наука имеет коллективного субъекта, так как исследования в неклассической науке предполагают взаимодействие специалистов из разных областей, которые хорошо знакомы со спецификой деятельности друг друга. Все эти критерии можно отнести к современным наукам о психическом здоровье: клинической психологии, психиатрии и психотерапии [Холмогорова, 2002].
Идея статуса неклассической, практико-ориентированной науки как особой формы научного знания четко зафиксирована отечественным методологом Э.Г. Юдиным: «В своем отношении к широко применяемой социальной практике наука продолжает оставаться и всегда останется, поскольку это будет именно наука, такой формой духовного производства, которая вырабатывает и предлагает практике теоретически обоснованные идеальные планы и программы деятельности (выделено мной. — А.Х.), независимо от того, выражены ли они в форме теоретических конструкций фундаментальной науки или в инженерноконструктивных схемах» [Юдин, 1978, с. 345].
Важнейшей задачей построения научно-обоснованной психотерапии отдельных расстройств является разработка комплексной модели психической патологии, т.е. изучение и выделение системы психологических факторов, лежащих в основе изучаемых форм патологии и выделения на этой основе системы мишеней психотерапии. Это необходимое условие разработки основ практической деятельности психотерапевта, включающих стратегии (задачи, этапы) и техники, т.е. научно обоснованный план или программу этой деятельности.
Именно такая цель была поставлена автором данной статьи в отношении психотерапии расстройств аффективного спектра: интеграция эмпирических и теоретических знаний под углом зрения практической задачи помощи, т.е. разработка теоретических и эмпирических оснований интегративной психотерапии расстройств аффективного спектра [Холмогорова, 2006].
Прикладная наука
В.С. Швырев [1995] дает характеристику нового типа знания и новой науки, которая в отличие от классической науки имеет дело с деятельностными объектами и сама превращается в проектную деятельность, включается в практическую деятельность в качестве ее идеального плана. Осваивая задачи управления деятельностью (в широком смысле слова), наука не только выстраивает специфические связи с практикой, но и оказывается не в состоянии удержаться в традиционных предметных границах. Способность науки эффективно включаться в решение сложных практических задач предполагает постоянную рефлексию сложившихся методов и технологий осуществления практической деятельности, пересмотр ее оснований, втягивание в свою орбиту новых знаний, в целях совершенствования практики, расширение предметных границ.
Научные дисциплины, развивающиеся в контексте практической деятельности и создающие при этом собственные области знания, в отечественной методологии получили название неклассических. В работах таких отечественных методологов как Э.Г. Юдин, Н.Г. Алексеев, А.П. Горохов осуществлена методологическая рефлексия принципов, средств и процедур построения предмета неклассической науки на примере таких междисциплинарных областей знания как инженерная деятельность [Горохов, 1987] и эргономика — наука, комплексно изучающая деятельность человека с целью повышения эффективности взаимодействия человека с техникой, сохранения здоровья и развития личности [Юдин, 1970; Мунипов, Алексеев, Семенов, 1979].
Эти разработки вполне приложимы к современному этапу развития наук о психическом здоровье и его нарушениях, которые стоят перед необходимостью решения сложных практических задач лечения и профилактики психических расстройств, требующих комплексного учета различных факторов, выделенных в разных научных школах.
В.С. Швырев [1995] дает характеристику нового типа знания и новой науки, которая в отличие от классической науки имеет дело с деятельностными объектами и сама превращается в проектную деятельность, включается в практическую деятельность в качестве ее идеального плана. Осваивая задачи управления деятельностью (в широком смысле слова), наука не только выстраивает специфические связи с практикой, но и оказывается не в состоянии удержаться в традиционных предметных границах. Способность науки эффективно включаться в решение сложных практических задач предполагает постоянную рефлексию сложившихся методов и технологий осуществления практической деятельности, пересмотр ее оснований, втягивание в свою орбиту новых знаний, в целях совершенствования практики, расширение предметных границ.
Научные дисциплины, развивающиеся в контексте практической деятельности и создающие при этом собственные области знания, в отечественной методологии получили название неклассических. В работах таких отечественных методологов как Э.Г. Юдин, Н.Г. Алексеев, А.П. Горохов осуществлена методологическая рефлексия принципов, средств и процедур построения предмета неклассической науки на примере таких междисциплинарных областей знания как инженерная деятельность [Горохов, 1987] и эргономика — наука, комплексно изучающая деятельность человека с целью повышения эффективности взаимодействия человека с техникой, сохранения здоровья и развития личности [Юдин, 1970; Мунипов, Алексеев, Семенов, 1979].
Эти разработки вполне приложимы к современному этапу развития наук о психическом здоровье и его нарушениях, которые стоят перед необходимостью решения сложных практических задач лечения и профилактики психических расстройств, требующих комплексного учета различных факторов, выделенных в разных научных школах.
Дочитали до конца.