Показаны записи 551 - 560 из 3694
</>
![[pic]](http://www.heliusmedical.com/wp-content/uploads/2014/09/img_head.jpg)
Модель тайцзицюань от MetaPractice (19) Роль ENS в тайцзи. Язык - интерфейс ENS
metanymous в Metapractice (оригинал в ЖЖ)
http://metapractice.livejournal.com/455626.html
Оригинал взят у elgru в Язык - ворота в мозг
Ворота в мозг «Русский репортер» №7 (383), март 2015
На первом видеоролике женщина идет по коридору. Впрочем, слово «идет» не передает реальной картины. Мы видим пациентку, едва переступающую ногами, с трудом сохраняя равновесие; её качает в стороны, она осторожно перешагивает небольшой брусок и не падает лишь потому, что ее подстраховывает другая женщина. Помощница всегда рядом: элементарные задания – посмотреть направо и налево во время ходьбы, развернуться, обойти препятствие – даются пациентке с большим трудом.
Пять лет назад она попала в аварию. Ноги вполне здоровы, но мозг пострадал и не может наладить контроль движений. В итоге инвалидность, сильные нарушения речи и тяжелая депрессия. Врачи не нашли средства помочь – разведя руками, они предложили ей заново учиться жить. Вот так, после безуспешных скитаний по клиникам, она оказалась в лаборатории нейрореабилитации Университета штата Висконсин (США).
Второе видео снято спустя пять дней после первого. Та же женщина уверенно идет по коридору, легко обходит и перешагивает, спускается и поднимается по лестнице. А в конце ролика, чтобы нас добить, прыгает со скакалкой. За пять дней, прошедших с тех пор, пациентка не принимала чудо-лекарств и не ложилась под скальпель хирурга. Все что было – короткие занятия с электрическим прибором, созданным в лаборатории.
— Если бы я сказал, что то, что мы делаем, может помочь таким хроническим больным, вы бы мне не поверили, — признается Юрий Данилов, научный руководитель лаборатории. — Я бы сам себе не поверил. Даже в моем сознании это уложилось с трудом.
 Данилов не врач, но через его руки прошли сотни тяжелых пациентов. Это люди после инсультов, сотрясений мозга, больные рассеянным склерозом и болезнью Паркинсона. В лаборатории придумали технологию, которая обещает изменить облик медицины.
Данилов не врач, но через его руки прошли сотни тяжелых пациентов. Это люди после инсультов, сотрясений мозга, больные рассеянным склерозом и болезнью Паркинсона. В лаборатории придумали технологию, которая обещает изменить облик медицины.
Прибор устроен вопиюще просто: коробочка, из которой торчит лопатообразная пластина, накладываемая на язык. Пластина зажимается зубами, с прибором можно как угодно двигаться, и все это время язык получает легкие электрические импульсы. Это совсем не больно, покалывания от пластины Данилов сравнивает с пузырьками шампанского. Он показывает один видеоролик за другим – пациенты до и после – и везде примерно одна картина: к людям возвращается свобода движений, они начинают ходить без посторонней помощи.
— Мы не клиника, мы разработчики. Я работаю с пациентами, только когда у меня есть разрешение на определенное число больных. И если у нас нет возможности дать человеку прибор, чтобы он уехал с ним домой, мы просто не беремся за его лечение, — предупреждает Данилов.
Пару лет назад его лаборатория подключилась к программам правительства США. Они связаны с реабилитацией контуженых солдат, реабилитацией после спортивных травм – сейчас это одна из острейших проблем в штатах. Прибор разрешен Управлением по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), но считается экспериментальным и не продается.
Язык в роли глаз
Данилов регулярно выступает перед медиками. Те слушают настороженно и не верят – слишком необычно, чересчур просто. Чтобы объяснить, как работает устройство и что, черт возьми, происходит, приходится начинать издалека. С опытов американского ученого Пола Бах-у-Риты.
Этот человек первым высказал идею о пластичности мозга. В подтверждение своих слов он в 1969 году разработал кресло, позволяющее слепым видеть спиной. Кресло подключалось к видеокамере, человек садился в него и чувствовал кожей вибрирующие элементы, которые в общих чертах повторяли картинку, снимаемую камерой. Таким путем слепой от рождения мог различать движения рук людей, их лица и даже то, какой из предметов находится ближе другого. Об этих опытах Бах-у-Рита опубликовал статью в журнале Nature. Он не уставал повторять, что «мы видим благодаря нашему мозгу, а не глазам».
Тогда это смотрелось курьезом на фоне утвердившегося мнения, что разделение труда внутри мозга жестко закреплено. Если часть нервной системы занята осязанием, она не может научиться зрению! Бах-у-Рита выглядел белой вороной – ему по-доброму посоветовали не тратить время впустую.
История науки знает немало таких советов. Бах-у-Рита не отрекся от своих идей, но всерьез к работе над кожным зрением вернулся лишь в девяностые. Только использовал уже не вибрирующие механизмы, а электричество. И вместо кожи на спине «глазом» служил язык. Именно тогда к его лаборатории присоединился новый сотрудник, Юрий Данилов.
Ему не раз доводилось слышать вопрос: язык? вы серьезно? Выбор спины почему-то вызывает меньше эмоций. Однако ответ лежит на поверхности – у языка она содержит тысячи нервных окончаний. Если вам попадался волосок в супе, вы сразу поймете, о чем речь. Ни одно место на коже не сравнится с языком в умении различать слабые раздражители.
Бах-у-Рита вместе с Даниловым разработали прибор для слепых. На голове закреплялась мини-камера, человек клал пластину на язык и ощущал легкие покалывания. Подобно пикселям электрические импульсы рисовали на пластине грубый образ того, что видит камера. Включив устройство, слепые свободно заходили в дверные проемы, ловили мячи и играли в крестики-нолики. Язык служил им новым портом для доставки информации в мозг вместо глаз.
Следуя метафоре, прибор так и назвали: BrainPort. Но тогда разработчики еще не догадывались, насколько велик их улов. Лишь со временем стало ясно, что выбор части тела, сделанный из удобства, несет в себе целый букет тайн и возможностей.
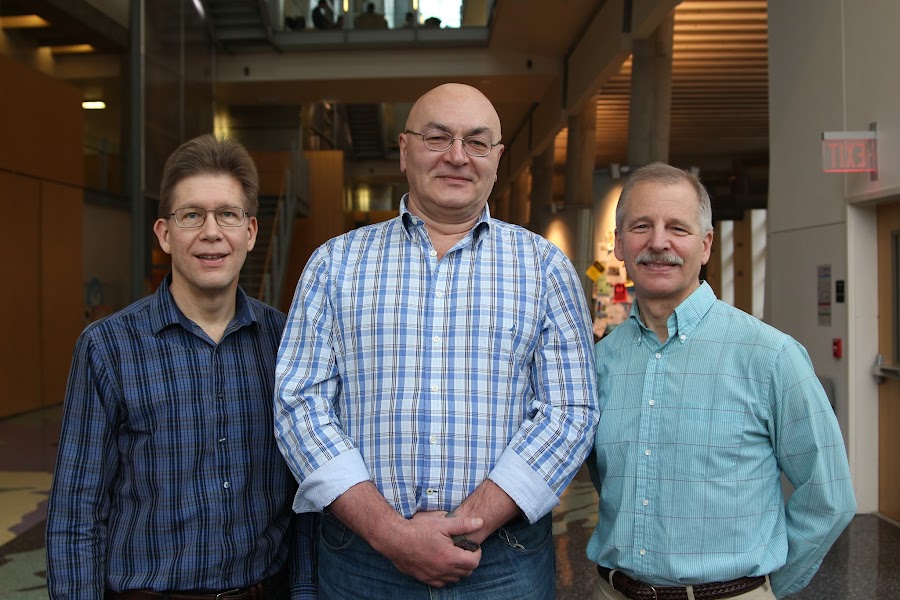
Главные сотрудники лаборатории: Kurt Kaczmarek, Yuri Danilov, Mitchell Tyler
Прибор работает и отключается
— Мы решили тогда: если мы можем заменить зрение, то надо подумать, что еще мы можем заменить, — рассказывает Данилов. — Больные с разрушенной вестибулярной системой из-за отравления антибиотиком подошли идеально. Потому что у них отказали только рецепторы, а мозг и управляющие пучки нервов были рабочие. Если мы хотим заменить сенсорный вход, лучше модели не придумать.
Антибиотик гентамицин – штука опасная. Если переборщить с дозой, он не только спасет от инфекции, но и разрушит волосковые клетки. Избавившись от заражения, больной заодно лишается системы равновесия. Он не может удерживать тело вертикально, его качает в стороны, словно он идет по канату, и стоит ему закрыть глаза, земля уходит из-под ног и он падает.
Для таких людей в лаборатории Бах-у-Риты придумали простую схему – на голову надевалась каска с устройством, меряющим отклонение, сигнал передавался на пластину, и больные могли языком ощутить, куда начинают заваливаться. Это сразу позволяло им выровнять положение тела. А затем случилось то, что нередко происходит в науке: главное открылось после того, как задача была решена.
Пациентка Шерил Шильц, потерявшая почти всю вестибулярную систему, стояла с прибором так уверенно, что ей решили отключить аппарат. Она продолжала сохранять равновесие. Выяснилось: если прибор работал несколько минут, еще треть от этого времени женщина могла стоять без его помощи.
— Интересный вопрос: почему после того, как прибор убрали, человек держит равновесие? Ведь в этом случае нет ни своих рецепторов, ни внешних. При десяти минутах пропорция не менялась: еще три минуты после процедуры женщина стояла сама. Но мы решили пойти дальше и обнаружили потрясающий эффект. После двадцати минут стимуляции больная могла сохранять равновесие свыше четырех часов. Мы открыли что-то совсем неизвестное.
Данилов показывает видео первых занятий с Шерил. Она ходит с палочкой, широко расставляя ноги, чтобы не упасть; при закрытых глазах тело начинает дергаться и заваливаться вперед. На видео, снятом через два месяца занятий, мы видим счастливую Шерил, прыгающую со скакалкой. Без прибора она едет на велосипеде и идет по бревну. Стимуляция языка на время превратила ее в здорового человека. Спустя два года благодаря прибору она уже в нем не нуждалась – выздоровела полностью. Хотя официально она инвалид, ведь ее вестибулярная система выжжена гентамицином.
Эффект подтвердился и на других людях. Причем занятия с прибором часто возвращали не только равновесие. Люди, в течение многих лет имевшие проблемы со сном, на четвертый день спали как убитые. У одного пациента восстановился вкус, давно потерянный после автомобильной аварии. У некоторых выправлялось косоглазие.
Чудо требует объяснений
— Нам стало понятно, что здесь что-то не так. Обратной связью от прибора это объяснить нельзя. Другие виды обратной связи не имеют такого эффекта. Например, вы можете взяться за поручень и стабилизировать свое положение. Но стоит поднять руку, колебания начнутся снова. Тактильная обратная связь, зрительная, звуковая — все они могут стабилизировать человека, но стоит отключить связь, и он вновь потеряет равновесие, — объясняет Данилов.
Возникла следующая идея: проверить прибор на людях с целой вестибулярной системой, но с проблемами в ходьбе. Такое часто бывает из-за травм, инсультов, болезни Паркинсона или рассеянного склероза. В работе с ними пришло понимание, что обратная связь не нужна. Каску убрали, импульсы теперь подавались на язык без всякой связи с внешним устройством.
Дальнейшее больше похоже на выдумку. Мы видим женщину после перелома шейных позвонков пятилетней давности; у нее сильные головные боли, головокружения, зрение скошено в сторону. Она ковыляет по известному коридору, после пары шагов дергается вниз и почти падает. Спустя час она прохаживается там же, разворачивается и напоследок игриво приседает, отвешивая поклон. А потом встает на одну ногу.
— Мы сделали ей одну стимуляцию. Поверьте, в шоке были все. Мне пришлось сделать каменное лицо и сказать: «Да, мы этого ожидали». На самом деле у меня внутри было очень интересное ощущение. Эффект продолжался пять часов. Через пять дней занятий по всем тестам на движение это был нормальный человек.
Случаи чудесного исцеления медицине известны, но они так и остаются отдельными эпизодами. Через лабораторию прошли уже сотни больных, и улучшение состояния – правило, а не исключение. За многие годы Данилов не встретил ни одного больного, которому стимуляция не дала бы никакого полезного эффекта.
— У меня был пациент, который пришел с рассеянным склерозом. В прошлом оперный певец, шесть лет не мог произносить гласные. Мышцы голосовых связок в гипертонусе и не могут расслабиться. Приходит ко мне и хрипит: «Бог с ним, с равновесием, ты можешь с голосом что-нибудь сделать?» Я ему объясняю: «Тебе семьдесят два года, не будь таким наивным, назавтра ты не запоешь». Но он запел. Хотя мы тренировали только равновесие. Наша стимуляция вызвала расслабление мышц.
Для врача излечение больного – конечная цель. Ученому важно знать, каким образом оно случилось. Данилов переживал, что не мог себе объяснить, как это работает. Удивляло решительно все. Вот простая вещь, электричество на языке, возвращает баланс хроническим больным. В чем тут фокус? И следом другая загадка: у больных уходят зажимы, дрожание рук, налаживается речь, зрение, сон, тонус лицевых мышц, контроль мочевого пузыря, память, концентрация. Целый веер проблем, которыми они даже не занимались.
Здоровье внутри нас
Часть разгадки в том, что язык – в самом деле уникальный орган. В отличие от любого другого участка кожи язык связан с головным мозгом напрямую. Два крупных нерва тянутся от его кончика в мозжечок и ствол. А ствол – тоже особое место, настоящий технический центр мозга, где сходятся почти все нервные пути.

Новейшая версия прибора PoNS
С прибором такой проблемы нет – он стимулирует все. Нужно лишь делать то, что дается с трудом. От языка в поврежденную сеть вливаются новые тысячи импульсов; с ними движение пойдет чуть легче, связи окрепнут. Пластичность мозга дает шанс проложить новые пути – нужно лишь показать, что они ему нужны, что по ним пойдет много электричества.
Роль такого помощника как раз и выполняет прибор, названный Portable Neuromodulation Stimulator. Сокращение PoNS перекликается с английским термином для Варолиева моста, отдела в стволе головного мозга. Данилов видит в том и в другом неисчерпаемый источник идей.
— Каждый день звонят люди: мышечная дистрофия — можете помочь? А дислексия, латеральный склероз, дети-аутисты? У меня список того, где мы могли бы помочь, — более сорока заболеваний. Но я работаю всего с четырьмя. Разработать методику, правила применения — все это требует серьезных исследований. И мы в нашей лаборатории следующие лет десять будем изучать, где и как еще можно использовать наш прибор. Мы до сих пор не нашли границ его применения.
* * *
История далеко не полная, но объем текста имеет предел.
Для интересующихся скептиков: список публикаций. Там далеко не все. Например, нет важной итоговой работы Пола Бах-у-Риты Emerging concepts of brain function. Но для первого знакомства списка достаточно. Увидеть пациентов можно, например, в докладе Данилова на русском языке на конференции «Вейновские чтения» (2012).
Продолжаю следить за развитием событий.

Стимуляция языка активирует минимум два крупных нерва, соединенных со стволом мозга: тройничный и лицевой
Оригинал взят у elgru в Язык - ворота в мозг
Оригинал взят у  dok_zlo в Ссылки
dok_zlo в Ссылки
Оригинал взят у nature_wonder в Ворота в мозг
Оригинал взят у nature_wonder в Ворота в мозг
В далеком 2010 году встречался с Юрием Даниловым, разработчиком прибора BrainPort – того самого, что позволяет слепым видеть языком. Тогда мы сделали большое интервью ("Видеть языком"), Данилов подробно рассказал, что и как. Но уже в то время он приспособил прибор и для других целей: работал с больными, потерявшими координацию и способность нормально двигаться. Привезенный в Москву BrainPort лишился камеры и не передавал изображение. Просто стимулировал язык. Данилов использовал прибор для нейрореабилитации, чему я был свидетелем.
Пора рассказать, как продвинулось дело и какие перспективы открылись. Нахожу это более сногсшибательным, нежели зрение через язык. Заранее согласен: звучит как фантастика. Я бы не поверил, если бы не знал Данилова, его предыдущие результаты со слепыми, минимальную физиологию, стоящую за этим, про рост внимания к стимуляции в нейромедицине. А главное – если бы не видел видеозаписей пациентов «до» и «после». Изложенное ниже можно поделить на три, подразумевая, что не на всех срабатывает; что на деле не все так гладко. Но даже в таком варианте принять будет сложно. Статью опубликовал РР. Текст для удобства привожу полностью.
Пора рассказать, как продвинулось дело и какие перспективы открылись. Нахожу это более сногсшибательным, нежели зрение через язык. Заранее согласен: звучит как фантастика. Я бы не поверил, если бы не знал Данилова, его предыдущие результаты со слепыми, минимальную физиологию, стоящую за этим, про рост внимания к стимуляции в нейромедицине. А главное – если бы не видел видеозаписей пациентов «до» и «после». Изложенное ниже можно поделить на три, подразумевая, что не на всех срабатывает; что на деле не все так гладко. Но даже в таком варианте принять будет сложно. Статью опубликовал РР. Текст для удобства привожу полностью.
Ворота в мозг «Русский репортер» №7 (383), март 2015
На первом видеоролике женщина идет по коридору. Впрочем, слово «идет» не передает реальной картины. Мы видим пациентку, едва переступающую ногами, с трудом сохраняя равновесие; её качает в стороны, она осторожно перешагивает небольшой брусок и не падает лишь потому, что ее подстраховывает другая женщина. Помощница всегда рядом: элементарные задания – посмотреть направо и налево во время ходьбы, развернуться, обойти препятствие – даются пациентке с большим трудом.
Пять лет назад она попала в аварию. Ноги вполне здоровы, но мозг пострадал и не может наладить контроль движений. В итоге инвалидность, сильные нарушения речи и тяжелая депрессия. Врачи не нашли средства помочь – разведя руками, они предложили ей заново учиться жить. Вот так, после безуспешных скитаний по клиникам, она оказалась в лаборатории нейрореабилитации Университета штата Висконсин (США).
Второе видео снято спустя пять дней после первого. Та же женщина уверенно идет по коридору, легко обходит и перешагивает, спускается и поднимается по лестнице. А в конце ролика, чтобы нас добить, прыгает со скакалкой. За пять дней, прошедших с тех пор, пациентка не принимала чудо-лекарств и не ложилась под скальпель хирурга. Все что было – короткие занятия с электрическим прибором, созданным в лаборатории.
— Если бы я сказал, что то, что мы делаем, может помочь таким хроническим больным, вы бы мне не поверили, — признается Юрий Данилов, научный руководитель лаборатории. — Я бы сам себе не поверил. Даже в моем сознании это уложилось с трудом.
 Данилов не врач, но через его руки прошли сотни тяжелых пациентов. Это люди после инсультов, сотрясений мозга, больные рассеянным склерозом и болезнью Паркинсона. В лаборатории придумали технологию, которая обещает изменить облик медицины.
Данилов не врач, но через его руки прошли сотни тяжелых пациентов. Это люди после инсультов, сотрясений мозга, больные рассеянным склерозом и болезнью Паркинсона. В лаборатории придумали технологию, которая обещает изменить облик медицины.Прибор устроен вопиюще просто: коробочка, из которой торчит лопатообразная пластина, накладываемая на язык. Пластина зажимается зубами, с прибором можно как угодно двигаться, и все это время язык получает легкие электрические импульсы. Это совсем не больно, покалывания от пластины Данилов сравнивает с пузырьками шампанского. Он показывает один видеоролик за другим – пациенты до и после – и везде примерно одна картина: к людям возвращается свобода движений, они начинают ходить без посторонней помощи.
— Мы не клиника, мы разработчики. Я работаю с пациентами, только когда у меня есть разрешение на определенное число больных. И если у нас нет возможности дать человеку прибор, чтобы он уехал с ним домой, мы просто не беремся за его лечение, — предупреждает Данилов.
Пару лет назад его лаборатория подключилась к программам правительства США. Они связаны с реабилитацией контуженых солдат, реабилитацией после спортивных травм – сейчас это одна из острейших проблем в штатах. Прибор разрешен Управлением по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), но считается экспериментальным и не продается.
Язык в роли глаз
Данилов регулярно выступает перед медиками. Те слушают настороженно и не верят – слишком необычно, чересчур просто. Чтобы объяснить, как работает устройство и что, черт возьми, происходит, приходится начинать издалека. С опытов американского ученого Пола Бах-у-Риты.
Этот человек первым высказал идею о пластичности мозга. В подтверждение своих слов он в 1969 году разработал кресло, позволяющее слепым видеть спиной. Кресло подключалось к видеокамере, человек садился в него и чувствовал кожей вибрирующие элементы, которые в общих чертах повторяли картинку, снимаемую камерой. Таким путем слепой от рождения мог различать движения рук людей, их лица и даже то, какой из предметов находится ближе другого. Об этих опытах Бах-у-Рита опубликовал статью в журнале Nature. Он не уставал повторять, что «мы видим благодаря нашему мозгу, а не глазам».
Тогда это смотрелось курьезом на фоне утвердившегося мнения, что разделение труда внутри мозга жестко закреплено. Если часть нервной системы занята осязанием, она не может научиться зрению! Бах-у-Рита выглядел белой вороной – ему по-доброму посоветовали не тратить время впустую.
История науки знает немало таких советов. Бах-у-Рита не отрекся от своих идей, но всерьез к работе над кожным зрением вернулся лишь в девяностые. Только использовал уже не вибрирующие механизмы, а электричество. И вместо кожи на спине «глазом» служил язык. Именно тогда к его лаборатории присоединился новый сотрудник, Юрий Данилов.
Ему не раз доводилось слышать вопрос: язык? вы серьезно? Выбор спины почему-то вызывает меньше эмоций. Однако ответ лежит на поверхности – у языка она содержит тысячи нервных окончаний. Если вам попадался волосок в супе, вы сразу поймете, о чем речь. Ни одно место на коже не сравнится с языком в умении различать слабые раздражители.
Бах-у-Рита вместе с Даниловым разработали прибор для слепых. На голове закреплялась мини-камера, человек клал пластину на язык и ощущал легкие покалывания. Подобно пикселям электрические импульсы рисовали на пластине грубый образ того, что видит камера. Включив устройство, слепые свободно заходили в дверные проемы, ловили мячи и играли в крестики-нолики. Язык служил им новым портом для доставки информации в мозг вместо глаз.
Следуя метафоре, прибор так и назвали: BrainPort. Но тогда разработчики еще не догадывались, насколько велик их улов. Лишь со временем стало ясно, что выбор части тела, сделанный из удобства, несет в себе целый букет тайн и возможностей.
Главные сотрудники лаборатории: Kurt Kaczmarek, Yuri Danilov, Mitchell Tyler
Прибор работает и отключается
— Мы решили тогда: если мы можем заменить зрение, то надо подумать, что еще мы можем заменить, — рассказывает Данилов. — Больные с разрушенной вестибулярной системой из-за отравления антибиотиком подошли идеально. Потому что у них отказали только рецепторы, а мозг и управляющие пучки нервов были рабочие. Если мы хотим заменить сенсорный вход, лучше модели не придумать.
Антибиотик гентамицин – штука опасная. Если переборщить с дозой, он не только спасет от инфекции, но и разрушит волосковые клетки. Избавившись от заражения, больной заодно лишается системы равновесия. Он не может удерживать тело вертикально, его качает в стороны, словно он идет по канату, и стоит ему закрыть глаза, земля уходит из-под ног и он падает.
Для таких людей в лаборатории Бах-у-Риты придумали простую схему – на голову надевалась каска с устройством, меряющим отклонение, сигнал передавался на пластину, и больные могли языком ощутить, куда начинают заваливаться. Это сразу позволяло им выровнять положение тела. А затем случилось то, что нередко происходит в науке: главное открылось после того, как задача была решена.
Пациентка Шерил Шильц, потерявшая почти всю вестибулярную систему, стояла с прибором так уверенно, что ей решили отключить аппарат. Она продолжала сохранять равновесие. Выяснилось: если прибор работал несколько минут, еще треть от этого времени женщина могла стоять без его помощи.
— Интересный вопрос: почему после того, как прибор убрали, человек держит равновесие? Ведь в этом случае нет ни своих рецепторов, ни внешних. При десяти минутах пропорция не менялась: еще три минуты после процедуры женщина стояла сама. Но мы решили пойти дальше и обнаружили потрясающий эффект. После двадцати минут стимуляции больная могла сохранять равновесие свыше четырех часов. Мы открыли что-то совсем неизвестное.
Данилов показывает видео первых занятий с Шерил. Она ходит с палочкой, широко расставляя ноги, чтобы не упасть; при закрытых глазах тело начинает дергаться и заваливаться вперед. На видео, снятом через два месяца занятий, мы видим счастливую Шерил, прыгающую со скакалкой. Без прибора она едет на велосипеде и идет по бревну. Стимуляция языка на время превратила ее в здорового человека. Спустя два года благодаря прибору она уже в нем не нуждалась – выздоровела полностью. Хотя официально она инвалид, ведь ее вестибулярная система выжжена гентамицином.
Эффект подтвердился и на других людях. Причем занятия с прибором часто возвращали не только равновесие. Люди, в течение многих лет имевшие проблемы со сном, на четвертый день спали как убитые. У одного пациента восстановился вкус, давно потерянный после автомобильной аварии. У некоторых выправлялось косоглазие.
Чудо требует объяснений
— Нам стало понятно, что здесь что-то не так. Обратной связью от прибора это объяснить нельзя. Другие виды обратной связи не имеют такого эффекта. Например, вы можете взяться за поручень и стабилизировать свое положение. Но стоит поднять руку, колебания начнутся снова. Тактильная обратная связь, зрительная, звуковая — все они могут стабилизировать человека, но стоит отключить связь, и он вновь потеряет равновесие, — объясняет Данилов.
Возникла следующая идея: проверить прибор на людях с целой вестибулярной системой, но с проблемами в ходьбе. Такое часто бывает из-за травм, инсультов, болезни Паркинсона или рассеянного склероза. В работе с ними пришло понимание, что обратная связь не нужна. Каску убрали, импульсы теперь подавались на язык без всякой связи с внешним устройством.
Дальнейшее больше похоже на выдумку. Мы видим женщину после перелома шейных позвонков пятилетней давности; у нее сильные головные боли, головокружения, зрение скошено в сторону. Она ковыляет по известному коридору, после пары шагов дергается вниз и почти падает. Спустя час она прохаживается там же, разворачивается и напоследок игриво приседает, отвешивая поклон. А потом встает на одну ногу.
— Мы сделали ей одну стимуляцию. Поверьте, в шоке были все. Мне пришлось сделать каменное лицо и сказать: «Да, мы этого ожидали». На самом деле у меня внутри было очень интересное ощущение. Эффект продолжался пять часов. Через пять дней занятий по всем тестам на движение это был нормальный человек.
Случаи чудесного исцеления медицине известны, но они так и остаются отдельными эпизодами. Через лабораторию прошли уже сотни больных, и улучшение состояния – правило, а не исключение. За многие годы Данилов не встретил ни одного больного, которому стимуляция не дала бы никакого полезного эффекта.
— У меня был пациент, который пришел с рассеянным склерозом. В прошлом оперный певец, шесть лет не мог произносить гласные. Мышцы голосовых связок в гипертонусе и не могут расслабиться. Приходит ко мне и хрипит: «Бог с ним, с равновесием, ты можешь с голосом что-нибудь сделать?» Я ему объясняю: «Тебе семьдесят два года, не будь таким наивным, назавтра ты не запоешь». Но он запел. Хотя мы тренировали только равновесие. Наша стимуляция вызвала расслабление мышц.
Для врача излечение больного – конечная цель. Ученому важно знать, каким образом оно случилось. Данилов переживал, что не мог себе объяснить, как это работает. Удивляло решительно все. Вот простая вещь, электричество на языке, возвращает баланс хроническим больным. В чем тут фокус? И следом другая загадка: у больных уходят зажимы, дрожание рук, налаживается речь, зрение, сон, тонус лицевых мышц, контроль мочевого пузыря, память, концентрация. Целый веер проблем, которыми они даже не занимались.
Здоровье внутри нас
Часть разгадки в том, что язык – в самом деле уникальный орган. В отличие от любого другого участка кожи язык связан с головным мозгом напрямую. Два крупных нерва тянутся от его кончика в мозжечок и ствол. А ствол – тоже особое место, настоящий технический центр мозга, где сходятся почти все нервные пути.
Догадку уже после смерти Бах-у-Риты подтвердила томография. Пять дней стимуляции языка ‘разгоняют’ ствол и мозжечок: они начинают работать активнее, и это видно на снимках МРТ. Иначе говоря, через язык можно напрямую включать глубокие структуры мозга. А те связаны и со спинным мозгом, и с большими полушариями. Выходит, сигналы от языка могут разойтись по всей нервной системе.
— За двадцать минут мы закачиваем порядка двадцати-тридцати миллионов импульсов, — рассказывает Данилов. — Они действуют на мозг двумя способами. Первый — мы стимулируем нервные сети, заполняя их электричеством. И второй — эти миллионы импульсов приводят к выделению веществ-медиаторов. В стволе мозга возникает мощная химическая волна. Шокирующая сторона нашей терапии в том, что прибор не вводит лекарств и не совершает операций. Но чудес мы не делаем — все ресурсы у больного в голове. Мы лишь путем стимуляции помогаем их включить.
Такое заявление не вяжется с выученными с детства истинами. Мы привыкли, что болезнь лечится извне: лекарство делает работу, которую не в силах выполнить организм. И вдруг нам говорят, что у инвалида есть ресурс для восстановления. Включается через язык. Свыкнуться с этой мыслью тяжело, нам нужны веские основания. И годы, годы экспериментов.
Стимуляция электричеством сегодня широко применяется в медицине. В лучших клиниках стоят десятки приборов, готовых пропустить ток через ваш мозг разными изощренными способами. Электричество и вправду способно лечить и не зря набирает популярность. Но Данилов указывает на одну важную деталь: все известные виды стимуляции бьют либо выше, либо ниже ствола, того самого технического центра. Язык оказался удобным и чуть ли не единственным входом в эту зону мозга. Ирония в том, что не будь он еще и самым чувствительным участком кожи, многих историй восстановления просто бы не случилось.
Врачи недоверчиво качают головой. Вредные побочные эффекты есть? – Нет. За пятнадцать лет опытов не было ни разу. Скепсис усиливается. Данилов замечает парадокс: если у человека случается микроинсульт, очень легко поверить, что появится куча проблем. Но стоит сказать, что одно воздействие может помочь сразу во многих местах, реакция общая: такого не может быть. Но мозг – это единый орган. Лишь для упрощения мы представляем его как машину из частей. И если активировать мозг как единое целое, то и восстанавливается он как единое целое.
Электрический обман мозга
Убедить трудно. Но с накопленной статистикой можно выходить в большой мир. Недавно в канадском Монреале начались тесты прибора для работы с рассеянным склерозом и травмами мозга. Такие же двойные слепые исследования идут уже в трех городах США. За полтора года будет отработана схема лечения – Данилов не вмешивается, это должна быть независимая проверка.
Привезли приборы и в Россию. Теперь он каждый год летает на родину, чтобы общаться с врачами.
— Месяц назад меня встречает человек в коридоре больницы и говорит: «Юрий Петрович, не поверите — непонятно как, но работает», — улыбается Данилов. — Я охотно верю, но мне как ученому самому хочется знать, как это работает. Хотя как клинический нейрофизиолог я понимаю, что больным и врачам главное, чтобы был результат.
И все же ученый побеждает. Данилов пробует объяснить на пальцах. Сначала даже на одном. Представьте, что вы хотите согнуть мизинец. Для этого должны сократиться, скажем, тысяча мышечных волокон. Но даже простое движение вовлекает в работу разные части нервной системы, от извилин до спинного мозга. У больного в этой цепочке связей что-то сломалось. Движение выходит медленное и слабое, вместо тысячи волокон срабатывают сто.
— В этом проблема рассеянного склероза и травм — мы знаем, что есть нарушение, но не знаем где. У человека после аварии на скане мозга ничего не видно — это называется диффузной травмой. Миллион мелких нарушений, и они не различимы. И что тогда лечить?
Такое заявление не вяжется с выученными с детства истинами. Мы привыкли, что болезнь лечится извне: лекарство делает работу, которую не в силах выполнить организм. И вдруг нам говорят, что у инвалида есть ресурс для восстановления. Включается через язык. Свыкнуться с этой мыслью тяжело, нам нужны веские основания. И годы, годы экспериментов.
Стимуляция электричеством сегодня широко применяется в медицине. В лучших клиниках стоят десятки приборов, готовых пропустить ток через ваш мозг разными изощренными способами. Электричество и вправду способно лечить и не зря набирает популярность. Но Данилов указывает на одну важную деталь: все известные виды стимуляции бьют либо выше, либо ниже ствола, того самого технического центра. Язык оказался удобным и чуть ли не единственным входом в эту зону мозга. Ирония в том, что не будь он еще и самым чувствительным участком кожи, многих историй восстановления просто бы не случилось.
Врачи недоверчиво качают головой. Вредные побочные эффекты есть? – Нет. За пятнадцать лет опытов не было ни разу. Скепсис усиливается. Данилов замечает парадокс: если у человека случается микроинсульт, очень легко поверить, что появится куча проблем. Но стоит сказать, что одно воздействие может помочь сразу во многих местах, реакция общая: такого не может быть. Но мозг – это единый орган. Лишь для упрощения мы представляем его как машину из частей. И если активировать мозг как единое целое, то и восстанавливается он как единое целое.
Электрический обман мозга
Убедить трудно. Но с накопленной статистикой можно выходить в большой мир. Недавно в канадском Монреале начались тесты прибора для работы с рассеянным склерозом и травмами мозга. Такие же двойные слепые исследования идут уже в трех городах США. За полтора года будет отработана схема лечения – Данилов не вмешивается, это должна быть независимая проверка.
Привезли приборы и в Россию. Теперь он каждый год летает на родину, чтобы общаться с врачами.
— Месяц назад меня встречает человек в коридоре больницы и говорит: «Юрий Петрович, не поверите — непонятно как, но работает», — улыбается Данилов. — Я охотно верю, но мне как ученому самому хочется знать, как это работает. Хотя как клинический нейрофизиолог я понимаю, что больным и врачам главное, чтобы был результат.
И все же ученый побеждает. Данилов пробует объяснить на пальцах. Сначала даже на одном. Представьте, что вы хотите согнуть мизинец. Для этого должны сократиться, скажем, тысяча мышечных волокон. Но даже простое движение вовлекает в работу разные части нервной системы, от извилин до спинного мозга. У больного в этой цепочке связей что-то сломалось. Движение выходит медленное и слабое, вместо тысячи волокон срабатывают сто.
— В этом проблема рассеянного склероза и травм — мы знаем, что есть нарушение, но не знаем где. У человека после аварии на скане мозга ничего не видно — это называется диффузной травмой. Миллион мелких нарушений, и они не различимы. И что тогда лечить?

Новейшая версия прибора PoNS
С прибором такой проблемы нет – он стимулирует все. Нужно лишь делать то, что дается с трудом. От языка в поврежденную сеть вливаются новые тысячи импульсов; с ними движение пойдет чуть легче, связи окрепнут. Пластичность мозга дает шанс проложить новые пути – нужно лишь показать, что они ему нужны, что по ним пойдет много электричества.
Роль такого помощника как раз и выполняет прибор, названный Portable Neuromodulation Stimulator. Сокращение PoNS перекликается с английским термином для Варолиева моста, отдела в стволе головного мозга. Данилов видит в том и в другом неисчерпаемый источник идей.
— Каждый день звонят люди: мышечная дистрофия — можете помочь? А дислексия, латеральный склероз, дети-аутисты? У меня список того, где мы могли бы помочь, — более сорока заболеваний. Но я работаю всего с четырьмя. Разработать методику, правила применения — все это требует серьезных исследований. И мы в нашей лаборатории следующие лет десять будем изучать, где и как еще можно использовать наш прибор. Мы до сих пор не нашли границ его применения.
* * *
История далеко не полная, но объем текста имеет предел.
Для интересующихся скептиков: список публикаций. Там далеко не все. Например, нет важной итоговой работы Пола Бах-у-Риты Emerging concepts of brain function. Но для первого знакомства списка достаточно. Увидеть пациентов можно, например, в докладе Данилова на русском языке на конференции «Вейновские чтения» (2012).
Продолжаю следить за развитием событий.

Стимуляция языка активирует минимум два крупных нерва, соединенных со стволом мозга: тройничный и лицевой
–Почтальон в роли мужчины - нет.
–Бывает в комедиях. И в песнях типа: "мама я лётчика люблю! Мама за лётчика пойду!"
Ну, в индивидуальных прочтениях может быть всё что угодно.
Тогда так:
КОНКРЕТНЫЙ МУЖЧИНА может быть В РОЛИ ЛЁТЧИКА.
КОНКРЕТНЫЙ ЛЁТЧИК же может быть только в роли некоего АРХЕТИПА МУЖЧИНЫ.
Вот и получается градация функциональной нагруженности объектов:
конкретный мужик -> любой лётчик -> архетип мужика
–Дерево В РОЛИ антенны - бывает. Антенна в роли дерева - нет.
–Да запросто - в искусственной среде большого города. Типа - скульптура. Или если повесить скворечник на антенну.
Пардон, любая антенна принимает и передаёт сигналы.
Но не на любую можно повесить скворечник или превратить в скульптуру.
–Бывает в комедиях. И в песнях типа: "мама я лётчика люблю! Мама за лётчика пойду!"
Ну, в индивидуальных прочтениях может быть всё что угодно.
Тогда так:
КОНКРЕТНЫЙ МУЖЧИНА может быть В РОЛИ ЛЁТЧИКА.
КОНКРЕТНЫЙ ЛЁТЧИК же может быть только в роли некоего АРХЕТИПА МУЖЧИНЫ.
Вот и получается градация функциональной нагруженности объектов:
конкретный мужик -> любой лётчик -> архетип мужика
–Дерево В РОЛИ антенны - бывает. Антенна в роли дерева - нет.
–Да запросто - в искусственной среде большого города. Типа - скульптура. Или если повесить скворечник на антенну.
Пардон, любая антенна принимает и передаёт сигналы.
Но не на любую можно повесить скворечник или превратить в скульптуру.
Дальше. Не является большим секретом, что метамодель не работает с материалом длинной больше чем в одну фразу. Ваш красивый пример истории, составленный из однословных предложений, получает смысл именно за счёт нахождения этих слов рядом и в последовательности.
Любые фразы в последовательности приобретают дополнительный смысл.
В устной речи точек в словах не было бы, а было бы, например: "Сезоны, окончание, зима. Начало, весна, ожидание." (точками обозначены паузы в речи)
В этом случа надо брать в расчет скорее "художественную речь".
Оператор в момент паузы должен был бы подать субъекту сигнал "стоп" и метамоделировать то, что проскочило за один фрагмент. Например: "сезоны, окончание, зима". Аграматизм этой фразы делу не помеха, и ничто не мешает задать вопрос типа "как именно сезон оканчивается зимой?" и т.д. (вариантов множество)
Не утрируй. С номинализациями нет проблем возвратного извлечения их из устной речи. С ними работают другие правила. Нас не интересуют однократно произнесенные номинализации. Нас интересуют повторяющиеся номинализации. Я могу слушать целый час чей-то монолог и спокойно записывать частоту повторения номинализаций. А потом подвергнуть несколько из них метамодельной декомпозиции/конкретизации.
Любые фразы в последовательности приобретают дополнительный смысл.
В устной речи точек в словах не было бы, а было бы, например: "Сезоны, окончание, зима. Начало, весна, ожидание." (точками обозначены паузы в речи)
В этом случа надо брать в расчет скорее "художественную речь".
Оператор в момент паузы должен был бы подать субъекту сигнал "стоп" и метамоделировать то, что проскочило за один фрагмент. Например: "сезоны, окончание, зима". Аграматизм этой фразы делу не помеха, и ничто не мешает задать вопрос типа "как именно сезон оканчивается зимой?" и т.д. (вариантов множество)
Не утрируй. С номинализациями нет проблем возвратного извлечения их из устной речи. С ними работают другие правила. Нас не интересуют однократно произнесенные номинализации. Нас интересуют повторяющиеся номинализации. Я могу слушать целый час чей-то монолог и спокойно записывать частоту повторения номинализаций. А потом подвергнуть несколько из них метамодельной декомпозиции/конкретизации.
Сезоны.
В корзину можно положить - нет.
Внезапный сезон - нет такого.
Непрерывный сезон - есть.
"Сезонить" - нет.
Итого: не номинализация.
Окончание.
В корзину - нет.
Внезапное окончание - есть.
Непрерывное окончание - нет
Оканчиваться - есть.
Итого: не номинализация.
Зима.
В корзину - нет.
Внезапная зима - есть.
Непрерывная зима - есть.
Зимовать - есть.
Итого: номинализация.
Начало.
В корзину - нет.
Внезапное начало - есть.
Непрерывное начало - нет.
Начинать - есть.
Итого - не номинализация.
Весна.
В корзину - нет.
Внезапная весна - есть.
Непрерывная весна - есть.
Весновать - нет.
Итого: не номинализация.
Ожидание.
В корзину - нет.
Внезапное - нет.
Непрерывное - да.
Ожидать - да.
Итого: нет.
Лето.
В корзину - нет.
Внезапное - да. Непрерывное - да. Летовать - нет. Не н.
Солнце.
Не номинализация.
Зелень.
Не номинализация.
Тепло.
Не номинализация.
Жара.
Номинализация.
Дожди.
Корзина - нет. Внезапный - да, непрерывный - да, дождить - нет. Не номинализация.
Погода.
Внезапная - да, непрерывная - да, распогодиться - да. Номинализация.
Потепление.
Внезапное - да, непрерывное - да, потеплеть - да. Номинализация.
ЦРУ.
Не номинализация.
Глобализация.
Номинализация.
Капец.
Непрерывный капец - нет. Не номинализация.
Итого 11 не номинализация (по указанному вами критерию) из 17 слов. Вот так пример!
Дальше. Не является большим секретом, что метамодель не работает с материалом длинной больше чем в одну фразу. Ваш красивый пример истории, составленный из однословных предложений, получает смысл именно за счёт нахождения этих слов рядом и в последовательности.
В устной речи точек в словах не было бы, а было бы, например:
"Сезоны, окончание, зима. Начало, весна, ожидание." (точками обозначены паузы в речи)
Оператор в момент паузы должен был бы подать субъекту сигнал "стоп" и метамоделировать то, что проскочило за один фрагмент. Например: "сезоны, окончание, зима". Аграматизм этой фразы делу не помеха, и ничто не мешает задать вопрос типа "как именно сезон оканчивается зимой?" и т.д. (вариантов множество)
Если же субъект прямо вот так декламирует слова по одному со значительной паузой, то, очевидно, оператор получает возможность прервать его сразу же после первого слова.
"Сезоны".
Приоритетная мета-форма – удаление глагола + субъекта. Поэтому здесь вопрос типа – "кто/что делает с сезонами?".
Вот и всех делов.
В корзину можно положить - нет.
Внезапный сезон - нет такого.
Непрерывный сезон - есть.
"Сезонить" - нет.
Итого: не номинализация.
Окончание.
В корзину - нет.
Внезапное окончание - есть.
Непрерывное окончание - нет
Оканчиваться - есть.
Итого: не номинализация.
Зима.
В корзину - нет.
Внезапная зима - есть.
Непрерывная зима - есть.
Зимовать - есть.
Итого: номинализация.
Начало.
В корзину - нет.
Внезапное начало - есть.
Непрерывное начало - нет.
Начинать - есть.
Итого - не номинализация.
Весна.
В корзину - нет.
Внезапная весна - есть.
Непрерывная весна - есть.
Весновать - нет.
Итого: не номинализация.
Ожидание.
В корзину - нет.
Внезапное - нет.
Непрерывное - да.
Ожидать - да.
Итого: нет.
Лето.
В корзину - нет.
Внезапное - да. Непрерывное - да. Летовать - нет. Не н.
Солнце.
Не номинализация.
Зелень.
Не номинализация.
Тепло.
Не номинализация.
Жара.
Номинализация.
Дожди.
Корзина - нет. Внезапный - да, непрерывный - да, дождить - нет. Не номинализация.
Погода.
Внезапная - да, непрерывная - да, распогодиться - да. Номинализация.
Потепление.
Внезапное - да, непрерывное - да, потеплеть - да. Номинализация.
ЦРУ.
Не номинализация.
Глобализация.
Номинализация.
Капец.
Непрерывный капец - нет. Не номинализация.
Итого 11 не номинализация (по указанному вами критерию) из 17 слов. Вот так пример!
Дальше. Не является большим секретом, что метамодель не работает с материалом длинной больше чем в одну фразу. Ваш красивый пример истории, составленный из однословных предложений, получает смысл именно за счёт нахождения этих слов рядом и в последовательности.
В устной речи точек в словах не было бы, а было бы, например:
"Сезоны, окончание, зима. Начало, весна, ожидание." (точками обозначены паузы в речи)
Оператор в момент паузы должен был бы подать субъекту сигнал "стоп" и метамоделировать то, что проскочило за один фрагмент. Например: "сезоны, окончание, зима". Аграматизм этой фразы делу не помеха, и ничто не мешает задать вопрос типа "как именно сезон оканчивается зимой?" и т.д. (вариантов множество)
Если же субъект прямо вот так декламирует слова по одному со значительной паузой, то, очевидно, оператор получает возможность прервать его сразу же после первого слова.
"Сезоны".
Приоритетная мета-форма – удаление глагола + субъекта. Поэтому здесь вопрос типа – "кто/что делает с сезонами?".
Вот и всех делов.
</>
Re: Звонить по телефону = делать/принимать звуковой вызо
metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)
--Но, вот звонок вызова/соединения, который слушают обе стороны: вызывающий и вызываемый, этот звонок/соединение есть уникальная часть процесса того, что мы искусственно назвали "телефонение", а речевая интуиция по-праву очень точно и просто определила как "телефонный звонок".
--"Прозвонить" линию = получить сигнал подтверждения прохождения сигнала.
Совершенно верно. Но, это не в контексте т. разговора субъектов. Это в контексте определения определения функционального состояния электрических сетей.
Иначе говоря, т. звонок есть в конечном итоге процесс обмена языковыми кодами.
Прозвонка э. цепей есть в конечном итоге процесс обмена электрическими сигналами.
Совсем разные системные уровни.
Но, ежели проверка качества т. сетей производится путем реализации с этой целью некоего тестового разговора, то и в этом случае мы имеем дело не с прозвонкой, а тестирующими т. звонками.
На той стороне "звонок" может быть и не обязателен, например заменен на лампу или вибро, а вот для вызывающего в качестве сигнала подтверждения прохождения сигнала до абонента возможен только звуковой сигнал. Согласен.
Звуковой сигнал есть элемент прозвонки с одновременным вызовом по электрической сети.
А вот первые "алё" есть тестирование телефонной линии.
Далее, следует сам т. разговор.
Телефонить - передавать голос на расстояние
Звонить - привлекать внимание/получать подтверждение, что сигнал привлечения внимания активен в месте назначения (И для первого, и для второго звуковой канал более оптимален). Телефонный звонок - это сигнал привлечения внимания к разговору на расстоянии
Тогда телефонный сигнал был бы подобен, например, вою волка в ночи, который привлекает внимание других волков.
Но, телефонный разговор вместе с привлечением сигнала содержит явное/не явное сообщение о возможности реализации межсубъектного разговора.
--"Прозвонить" линию = получить сигнал подтверждения прохождения сигнала.
Совершенно верно. Но, это не в контексте т. разговора субъектов. Это в контексте определения определения функционального состояния электрических сетей.
Иначе говоря, т. звонок есть в конечном итоге процесс обмена языковыми кодами.
Прозвонка э. цепей есть в конечном итоге процесс обмена электрическими сигналами.
Совсем разные системные уровни.
Но, ежели проверка качества т. сетей производится путем реализации с этой целью некоего тестового разговора, то и в этом случае мы имеем дело не с прозвонкой, а тестирующими т. звонками.
На той стороне "звонок" может быть и не обязателен, например заменен на лампу или вибро, а вот для вызывающего в качестве сигнала подтверждения прохождения сигнала до абонента возможен только звуковой сигнал. Согласен.
Звуковой сигнал есть элемент прозвонки с одновременным вызовом по электрической сети.
А вот первые "алё" есть тестирование телефонной линии.
Далее, следует сам т. разговор.
Телефонить - передавать голос на расстояние
Звонить - привлекать внимание/получать подтверждение, что сигнал привлечения внимания активен в месте назначения (И для первого, и для второго звуковой канал более оптимален). Телефонный звонок - это сигнал привлечения внимания к разговору на расстоянии
Тогда телефонный сигнал был бы подобен, например, вою волка в ночи, который привлекает внимание других волков.
Но, телефонный разговор вместе с привлечением сигнала содержит явное/не явное сообщение о возможности реализации межсубъектного разговора.
</>
![[pic]](http://localhost:4000/images/none.gif)
Re: Звонить по телефону = делать/принимать звуковой вызо
bavi в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)
Но, вот звонок вызова/соединения, который слушают обе стороны: вызывающий и вызываемый, этот звонок/соединение есть уникальная часть процесса того, что мы искусственно назвали "телефонение", а речевая интуиция по-праву очень точно и просто определила как "телефонный звонок".
"Прозвонить" линию = получить сигнал подтверждения прохождения сигнала. На той стороне "звонок" может быть и не обязателен, например заменен на лампу или вибро, а вот для вызывающего в качестве сигнала подтверждения прохождения сигнала до абонента возможен только звуковой сигнал. Согласен.
Телефонить - передавать голос на расстояние
Звонить - привлекать внимание/получать подтверждение, что сигнал привлечения внимания активен в месте назначения (И для первого, и для второго звуковой канал более оптимален)
Телефонный звонок - это сигнал привлечения внимания к разговору на расстоянии
"Прозвонить" линию = получить сигнал подтверждения прохождения сигнала. На той стороне "звонок" может быть и не обязателен, например заменен на лампу или вибро, а вот для вызывающего в качестве сигнала подтверждения прохождения сигнала до абонента возможен только звуковой сигнал. Согласен.
Телефонить - передавать голос на расстояние
Звонить - привлекать внимание/получать подтверждение, что сигнал привлечения внимания активен в месте назначения (И для первого, и для второго звуковой канал более оптимален)
Телефонный звонок - это сигнал привлечения внимания к разговору на расстоянии
Мать использует реакции ребенка, чтобы утверждать, что ее поведение является любящим, а поскольку любящее поведение симулируется, ребенок оказывается в положении, когда он не должен правильно интерпретировать ее коммуникацию, если он хочет поддерживать свои отношения с ней.
Иными словами, ему запрещается правильно определять уровни сообщений: в данном случае различать выражение симулируемых чувств (один логический тип) и реальных чувств (другой логический тип).
В результате ребенок должен систематически искажать свое восприятие метакоммуникативных сигналов. Например, если мать испытывает враждебность (или привязанность) к ребенку и чувствует при этом одновременно потребность отдалиться от него, она может сказать: "Иди спать, ты устал. Я хочу, чтобы ты уснул". Это высказывание, внешне выражающее заботу, на самом деле направлено на то, чтобы отрицать чувство, которое можно было бы сформулировать так: "Убирайся с глаз моих долой! До чего же ты мне надоел!"
Если ребенок правильно различает метакоммуникативные сигналы матери, то он оказывается перед тем фактом, что она одновременно не хочет его видеть и симулирует любовь, вводя его в заблуждение. Но ребенок будет "наказан", если научится различать уровни сообщений правильно. Поэтому он скорее примет идею, что он устал, нежели распознает обман матери.
Это означает, что он должен обмануть самого себя относительно своего внутреннего состояния, чтобы поддержать мать в этом обмане. Таким образом, чтобы выжить, он должен неправильно различать как свои собственные внутренние сообщения, так и сообщения матери.
Иными словами, ему запрещается правильно определять уровни сообщений: в данном случае различать выражение симулируемых чувств (один логический тип) и реальных чувств (другой логический тип).
В результате ребенок должен систематически искажать свое восприятие метакоммуникативных сигналов. Например, если мать испытывает враждебность (или привязанность) к ребенку и чувствует при этом одновременно потребность отдалиться от него, она может сказать: "Иди спать, ты устал. Я хочу, чтобы ты уснул". Это высказывание, внешне выражающее заботу, на самом деле направлено на то, чтобы отрицать чувство, которое можно было бы сформулировать так: "Убирайся с глаз моих долой! До чего же ты мне надоел!"
Если ребенок правильно различает метакоммуникативные сигналы матери, то он оказывается перед тем фактом, что она одновременно не хочет его видеть и симулирует любовь, вводя его в заблуждение. Но ребенок будет "наказан", если научится различать уровни сообщений правильно. Поэтому он скорее примет идею, что он устал, нежели распознает обман матери.
Это означает, что он должен обмануть самого себя относительно своего внутреннего состояния, чтобы поддержать мать в этом обмане. Таким образом, чтобы выжить, он должен неправильно различать как свои собственные внутренние сообщения, так и сообщения матери.
Он может выбрать другую возможность: принимать буквально все сказанное окружающими. Когда тон, жесты или контекст противоречат тому, что говорится, он может научиться отвечать на эти метакоммуникативные сигналы смехом. Он откажется от попыток различать уровни сообщений и будет рассматривать все сообщения как несущественные или достойные лишь того, чтобы посмеяться над ними.
Если он не стал подозрительным в отношении метакоммуникативных сообщений и не пытается осмеивать их, он может попытаться игнорировать их. Тогда он встанет перед необходимостью все меньше слышать и видеть из происходящего вокруг и делать все возможное, чтобы избежать какого-либо воздействия на окружающий мир. Он попытается отвлечь свои интересы от внешнего мира и сосредоточиться на собственных внутренних процессах. В результате он будет производить впечатление человека ко всему безучастного и, возможно, немого.
Иными словами, если индивид не знает, какого рода сообщения он получает, он может защищать себя теми способами, которые описываются как параноидный, гебефренический и кататонический. Эти три варианта не исчерпывают всех возможностей. Суть дела в том, что у него не получается выбрать какую-то одну стратегию, которая помогла бы ему обнаружить, что люди имеют в виду. Он не может без помощи извне обсуждать сообщения других. Не способный на это человек подобен любой другой самокорректирующейся системе с нарушенным регулирующим звеном (governor): система начинает воспроизводить бесконечный, но всегда систематический поток ошибок и искажений.
Если он не стал подозрительным в отношении метакоммуникативных сообщений и не пытается осмеивать их, он может попытаться игнорировать их. Тогда он встанет перед необходимостью все меньше слышать и видеть из происходящего вокруг и делать все возможное, чтобы избежать какого-либо воздействия на окружающий мир. Он попытается отвлечь свои интересы от внешнего мира и сосредоточиться на собственных внутренних процессах. В результате он будет производить впечатление человека ко всему безучастного и, возможно, немого.
Иными словами, если индивид не знает, какого рода сообщения он получает, он может защищать себя теми способами, которые описываются как параноидный, гебефренический и кататонический. Эти три варианта не исчерпывают всех возможностей. Суть дела в том, что у него не получается выбрать какую-то одну стратегию, которая помогла бы ему обнаружить, что люди имеют в виду. Он не может без помощи извне обсуждать сообщения других. Не способный на это человек подобен любой другой самокорректирующейся системе с нарушенным регулирующим звеном (governor): система начинает воспроизводить бесконечный, но всегда систематический поток ошибок и искажений.
Если человек провел свою жизнь в оковах double bind во взаимодействиях с каким-то значимым для него лицом (как это здесь описано), то после психотического срыва его способ общения с людьми будет иметь определенную систематическую структуру. Прежде всего, он не сможет обмениваться с людьми сигналами, которые сопровождают сообщения и указывают, что имеется в виду. Его мета-коммуникативная система - система сообщений по поводу коммуникации - разрушена, и он не знает, с какого рода сообщением имеет дело.
Если ему говорят: "Что бы ты хотел делать сегодня?", он не может правильно определить по контексту, по тону голоса и жестам: то ли его ругают за то, что он сделал вчера, то ли к нему обращаются с сексуальным предложением... И вообще, что имеется в виду?
Неспособность правильно определить, что говорящий на самом деле имеет в виду, и преувеличенная забота относительно того, что же на самом деле подразумевается, заставляют его защищаться, выбрав для себя нечто из нескольких альтернативных стратегий. Он может, например, решить, что за каждым высказыванием стоит какой-то скрытый смысл, угрожающий его благополучию.
Тогда скрытые смыслы станут его важнейшей заботой, и он будет решительно настроен показать всем, что его теперь не обмануть, как обманывали всю жизнь. Если он выбирает этот путь, он постоянно будет искать скрытый смысл за тем, что люди говорят, и за тем, что происходит вокруг него. Он станет характерно подозрительным и недоверчивым.
Если ему говорят: "Что бы ты хотел делать сегодня?", он не может правильно определить по контексту, по тону голоса и жестам: то ли его ругают за то, что он сделал вчера, то ли к нему обращаются с сексуальным предложением... И вообще, что имеется в виду?
Неспособность правильно определить, что говорящий на самом деле имеет в виду, и преувеличенная забота относительно того, что же на самом деле подразумевается, заставляют его защищаться, выбрав для себя нечто из нескольких альтернативных стратегий. Он может, например, решить, что за каждым высказыванием стоит какой-то скрытый смысл, угрожающий его благополучию.
Тогда скрытые смыслы станут его важнейшей заботой, и он будет решительно настроен показать всем, что его теперь не обмануть, как обманывали всю жизнь. Если он выбирает этот путь, он постоянно будет искать скрытый смысл за тем, что люди говорят, и за тем, что происходит вокруг него. Он станет характерно подозрительным и недоверчивым.
Шизофреники путают буквальное с метафорическим и в собственных высказываниях, если чувствуют себя попавшими в db-ситуацию. Например, пациент испытывает желание упрекнуть своего терапевта за опоздание, но он не знает точно, какого рода сообщение несет в себе это событие, в особенности если терапевт предварил реакцию пациента и извинился перед ним. Пациент не может сказать: "Почему вы опоздали? Вы не хотели встречаться со мной сегодня?" Это было бы обвинением, поэтому он прибегает к метафоре. Он может сказать тогда: "У меня был приятель, который вовремя не успел на корабль, его звали Сэм, а корабль чуть не утонул..." и т.д.
Он разворачивает метафорическую историю, в которой терапевт может заметить, а может и не заметить комментарий по поводу своего опоздания. В метафоре удобно то, что она оставляет терапевту (или матери) возможность усмотреть обвинение, если ему (ей) угодно, или пропустить его мимо ушей. Если терапевт примет обвинение, содержащееся в метафоре, тогда пациент может согласиться, что история про Сэма была метафорической. Если же терапевт скажет (чтобы избежать обвинения), что эта история кажется ему неправдоподобной, пациент начнет убеждать его, что действительно был такой человек, которого звали Сэм.
В качестве реакции на db-ситуацию метафорическое высказывание создает безопасность. При этом оно же не дает пациенту высказать обвинение, а он хочет это сделать.
Но вместо того, чтобы предъявить обвинение, признав, что рассказ был метафорой, шизофреник пытается отрицать сам факт метафоричности, делая рассказ еще более фантастичным.
Если терапевт проигнорирует обвинение, содержащееся в истории про Сэма, шизофреник может рассказать историю о путешествии на Марс в ракете, что будет еще одной попыткой транслировать обвинение.
Указание на то, что это утверждение метафорично, заложено в фантастичности самого рассказа, а не в сигналах, которые обычно сопровождают метафору, указывая слушателю, следует ли понимать сообщение буквально или в переносном смысле.
Он разворачивает метафорическую историю, в которой терапевт может заметить, а может и не заметить комментарий по поводу своего опоздания. В метафоре удобно то, что она оставляет терапевту (или матери) возможность усмотреть обвинение, если ему (ей) угодно, или пропустить его мимо ушей. Если терапевт примет обвинение, содержащееся в метафоре, тогда пациент может согласиться, что история про Сэма была метафорической. Если же терапевт скажет (чтобы избежать обвинения), что эта история кажется ему неправдоподобной, пациент начнет убеждать его, что действительно был такой человек, которого звали Сэм.
В качестве реакции на db-ситуацию метафорическое высказывание создает безопасность. При этом оно же не дает пациенту высказать обвинение, а он хочет это сделать.
Но вместо того, чтобы предъявить обвинение, признав, что рассказ был метафорой, шизофреник пытается отрицать сам факт метафоричности, делая рассказ еще более фантастичным.
Если терапевт проигнорирует обвинение, содержащееся в истории про Сэма, шизофреник может рассказать историю о путешествии на Марс в ракете, что будет еще одной попыткой транслировать обвинение.
Указание на то, что это утверждение метафорично, заложено в фантастичности самого рассказа, а не в сигналах, которые обычно сопровождают метафору, указывая слушателю, следует ли понимать сообщение буквально или в переносном смысле.
Дочитали до конца.