Ну, т.е. чисто теоретически, существуют несколько схем определения боли. Самые существенные из них:
(а) общая боль = физическая боль + психическая боль
(б) общая боль = физическая боль + психическая боль + психосоматическая боль
(в) общая боль = психосоматическая боль
(г) общая боль = системный процесс
Стоит заметить, что подход Эриксона к переработке боли, выраженным им в словах «боль это “конструкция”», по приведенной выше классификации есть вариант (г).
http://world-congress-hypnosis-nlp.com/EN/articles/cybernetic-communication/
(1) Как бороться с физической болью знал только один Милтон Эриксон.
(2) Бороться с тяжёлой физической болью психологическими средствами можно только с абсолютной уверенностью (собственными операторскими пресуппозициями) в том, что она преодолима.
(3) Вторичные побочные эффекты физической боли, проявляемые как естественные феномены, выявляются специализированными техниками ассоциативного анализа. В НЛП-1 классического кода, в НЛП-2,3,4 таких техник нет.
Зато, такая техника анализа есть у нас в метапрактике в рамках Конвейера Моделирования/ Конвейерного Моделирования. Техническое название техники «Турбо-психоанализ»:
Моделируем психоанализ (5) Онтология психоанализов
https://metapractice.livejournal.com/436252.html
Понемногу обо всем (55) Coaching, NLP, Ericksonian Hypnosis, Speed-Hypnosis and Trancetherapy
metanymous в Metapractice (оригинал в ЖЖ)
WHO-Worldcongress Hypnosis 2017 by worldwide Experts in the Field of Coaching, NLP, Ericksonian Hypnosis, Speed-Hypnosis and Trancetherapy.
Articles
http://world-congress-hypnosis-nlp.com/EN/news/articles/
http://ljsearch.metapractice.ru/
![[pic]](https://blog.kvv213.com/wp-content/uploads/2014/11/P1080378.jpg)
Подсознание (13) Инструментальное определение подсознательной динамики
metanymous в Metapractice (оригинал в ЖЖ)
http://www.нейротехнологии.рф/article_news?id=920
Сон можно будет отслеживать и без проводов
Каждый год десятки миллионов людей борются с хроническими нарушениями сна. Но диагностика и лечение бессонницы - трудная задача для врачей и исследователей. Обычно испытуемым приходится спать в лаборатории, «обмотанными» различными проводами, которые отслеживают дыхание, сердечный ритм, движения и активность мозга. В таком случае ученые получают не до конца достоверную информацию, которая в процессе анализа данных может быть еще больше искажена. Но теперь радиосигналы и машинное обучение призваны освободить испытуемых от проводов и некомфортного сна.
«Домашнее» устройство пускает радиоволны (подобно телефонам и Wi-Fi – роутерам) и измеряет отражённые от человека. Затем система, основываясь на прошлых радиочастотных мониторингах сна, с помощью трёх алгоритмов машинного обучения для анализа: дыхания, пульса и определения фазы сна. Первый тип нейронной сети распознаёт и обрабатывает спектрограммы, другой отслеживает временные паттерны для получения динамики стадий сна, а третий – уточняет анализ и обобщает его.
Исследователи обучили «анализатор» на 70 000 – х 30-секундных интервалах сна и проверяли его на 20 000 испытуемых. По итогам система смогла определить стадию сна с 80% точностью, что не удавалось до этого времени ни одному радиочастотному методу.
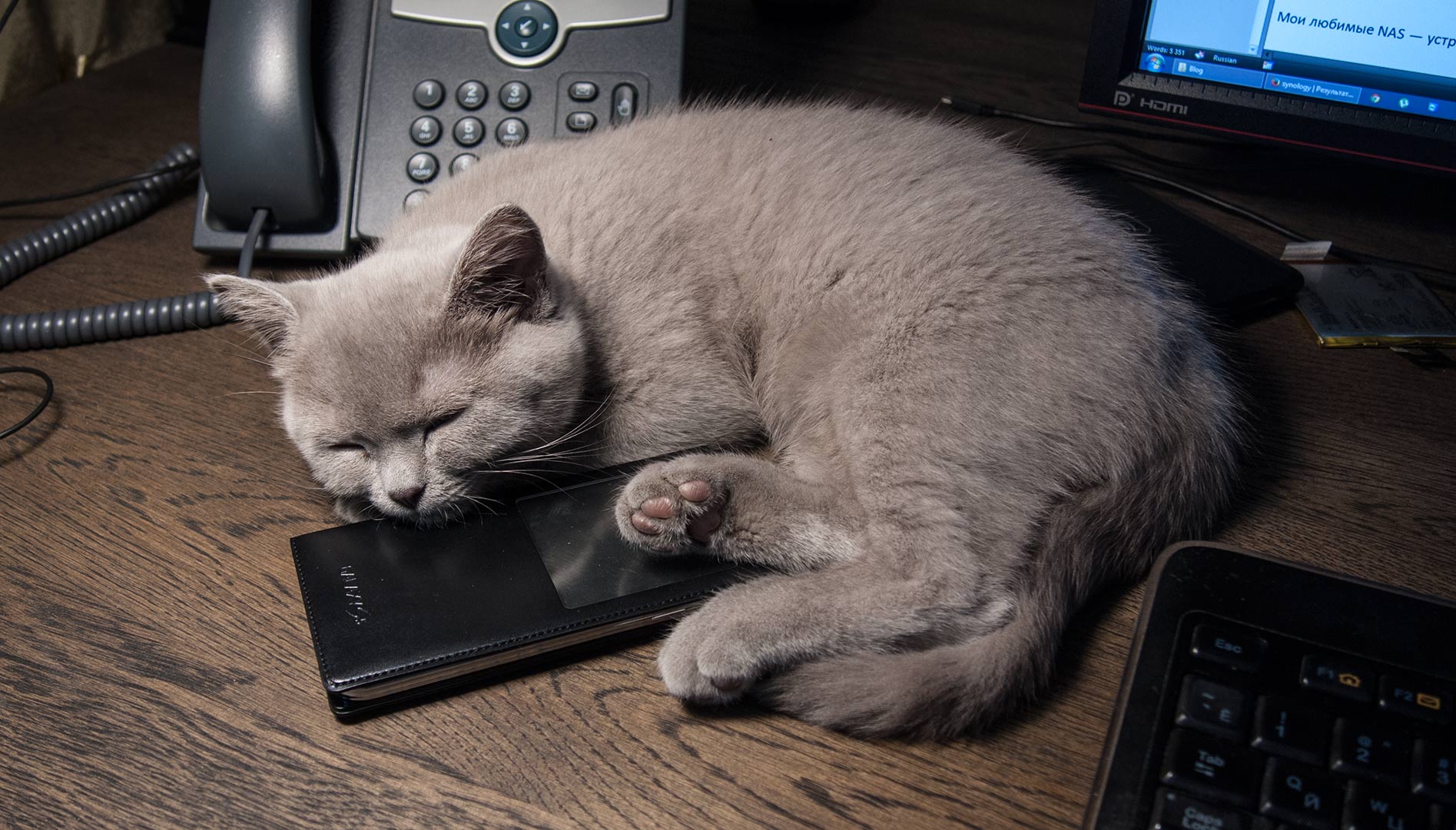
http://ljsearch.metapractice.ru/
Больны ли родственники; каковы теломеры у больных; что
metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)
Ну, если уж разбираться в этом вопросе, тогда нам надо знать:
(1) каковы генетические «задатки» деменции у родственников, которые от неё пока не пострадали
(2) каково состояние теломеров/ количество теломеразы у больных деменцией в обсуждаемых семьях
(3) каков тип и нюансы практиковавшейся медитации
Крепкие теломеры и устойчивость к стрессу одно свойст
metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)
Возможны два варианта логики:
(а) Одни субъекты контролируют свой стресс. Отсутствие стресса сохраняет им теломеры.
(б) Некие физические (генетические?) задатки определенных субъектов делают их одновременно устойчивыми к стрессу и с крепкими теломерами.
Для первого варианта имеет смысл экспериментировать с устранением стресса. Второй вариант логики делает идею защиты теломеров с помощью антистрессовых мероприятий фикцией.
Реагирование на подтекст есть буквальное реагирование, которое видит степени свободы там, где сделаны формальные запреты.
Обращение к подсознанию: контекстом, словом, экспресси
metanymous в посте Metapractice (оригинал в ЖЖ)
Для ответа на данный вопрос следует начать с выбора модели подсознания. У нас таких моделей формально 6-10. В настоящем случае следует выбрать модель части подсознания или отдельной субличности.
Субличности могут относительно примитивные, могут быть очень продвинутые: с собственным именем, мышлением и прочее.
В последнем случае субличность знает все что знает сознание + субличность в курсе того, что сознание субъекта вытеснило. Т.е. субличность знает все эти противоречия про сознание, подсознание и прочее, включая ключевую лексику.
откуда оно узнает что это именно к нему обращаются ?
В гипнотических контекстах к подсознанию обращаются не только лексически, но и через семантическое окружение.
Например, говорят что-то вроде: "пусть ваше сознание засыпает, а ваше подсознание начинает делать некую работу", - в данном варианте задается семантический контекст для обращения и активизации подсознания - это "сон".
Иначе сказать, значения слов "подсознание" и "сон" становятся соседствующими ассоциациями. Так что даже если с обращением/ пониманием будут проблемы, то с пониманием что значит спать и что-то делать во сне проблем никаких нет.
Ещё один аспект обращения к подсознанию. Эриксон маркировал такое обращение произнесением слов как бы нараспев - растягивая гласные. У субъектов, получивших нормальное семейное воспитание, такое обращение является якорем возрастной регрессии. Ибо точно так родители разговаривают с ребёнком до года, пока он не умеет говорить.
Маркирование любых слов произнесением нараспев будет вызывать элементы/ микро элементы процесса возрастной регрессии. Если сюда же добавить номинализацию "подсознание", то даже если у субъекта и не было хорошо сформированных субличностей, то они начнут формироваться.
Дочитали до конца.